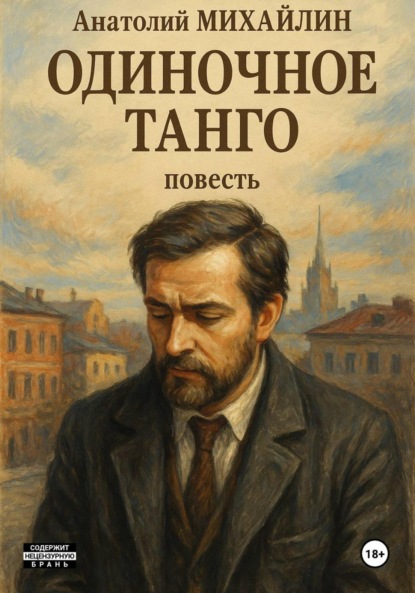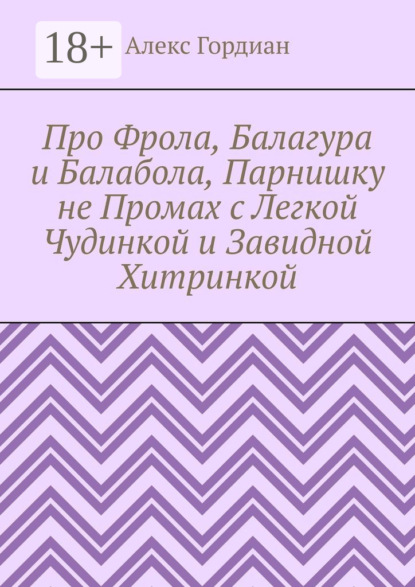- -
- 100%
- +

– 1 -
Анатолий МИХАЙЛИН
ОДИНОЧНОЕ ТАНГО
повесть
Любой, кого однажды выпороли ремнем, завсегда мудрей тех, кого ещё ни разу не пороли. Тем памятным летом, – аккурат в шестой по счету день рождения, – я постиг на практике всю глубину этой житейской истины, впервые получив добрую порцию такого угощения. Будучи загнанным, как нашкодивший зверек, на родительскую кровать, мне только и оставалось недоумевать и уворачиваться от града ударов кожаной полосы. Знатной экзекуции предшествовал совершенно невинный вопрос, заданный кем – то из гостей, собравшихся на гулянку в мою честь: «Ну, бродяга, расскажи, – кем хочешь стать, когда вырастешь?» Вот вам, здрасте! Поверьте на слово, – до той поры ни разочка об этом не задумывался. Растерявшись, ваш покорный слуга споткнулся о коварное обращение, как та несчастная скаковая лошадь, что на махах вдруг спотыкается о неожиданную преграду: хлобысь! – и копыта в небо. Оказывается, любому огольцу надлежит точно знать, – на манер сверстников, взапуски мечтающих переобуться космонавтами, водолазами, укротителями львов, певцами, шоферами, – кем он будет в туманном будущем. Такова, видите ли, традиция. Неохотно оторвавшись от куска именинного торта, честно пожал плечами, – не ведаю.
– Что ж, ты сплоховал, – пожурили меня позже, когда ядро пьяной ватаги откатилось от стола, – соврал бы чего, аль не умеешь? Вновь передернул плечами и добавил недавно услышанные от пьяного соседа три словечка, как мне по малолетству мнилось, очень верно передающие мотивы поведения. Повисла тишина, – у всей компании отнялись языки. Восседавший рядом, грузный, раскрасневшийся от дармовой выпивки мужик, перестал двигать челюстями и резко вывернув потными пальцами мое ухо, зло прорычал: «Ах, вот кем ты растешь, свинтус!» Более от неожиданности, чем от боли я громко вскрикнул. В ответ жеребячий хохот. Недолго думая, хватаю со скатерти ополовиненный стакан и выхлестываю его содержимое в лицо обидчика. Получив сдачи, визитер, – чьим вниманием родители, похоже, весьма дорожили, ибо за трапезой всячески пытались умаслить, – оторопел от дерзкой выходки. Затем пришел в себя, резко поднялся и, взглянув бодуче на гостей, молча утер пятерней лицо, и также молча удалился, громко хлопнув дверью. Дальнейшее известно.
– Теперь проходу не дадут, – отрыдав, заключил я уже ночью, завернувшись с головой в одеяло, – задразнят. Придется что – то выбирать. На досуге начал примерять всяческую профессиональную «обувь», но, подходящую во всех отношениях, не подыскал. И вдруг
– 2 -
случайно, – хотя случайность, есть не что иное, как проявление высшей воли, – в одной из радиопередач услышал загадочное и красивое слово – филология. Откуда мне тогда было знать, что филолог вовсе не профессия. Но, ура! Наутро, когда воспитательница детского сада, изобразив на лице приторную улыбку, приступила к нашей группе с расспросами, – а кто и кем у нас мечтает быть? – немедленно рапортую: хочу стать филологом! Грянул мыслительный столбняк, – у одногоршечников от удивления широко распахнулись их детские рты, а «воспиталка», смутившись и вмиг заподозрив неладное, отобрала у меня игрушки и поставила в угол. Вторично, после порки, озлился на весь мир и метал молнии до тех самых пор, пока не окончил филфак университета, попутно, всегда и всем, заявляя, – хочу прожить свой век грамматиком. Хочу и точка! Знающие люди издавна утверждают, что это не мы выбираем профессию, а чаще всего она нас. Как бы там ни было, но, что на роду написано, то и свершилось: новенький с иголочки заклинатель глаголов, страстный коллекционер наречий, повелитель склонений начал служить в столичном профильном институте, и дотянулся до должности заведующего отделом русского устного творчества. Живи, да радуйся! Что я и делал: излучал довольство и радовался, ибо был молод, здоров, обожал хорошеньких женщин, крепкий кофе, и род занятий. Прожить намеревался, – как и полагается в таком возрасте, – не меньше сотни лет. Опасная самонадеянность. Эта дама – мать многих и довольно горьких разочарований, – порой приводит к совершеннейшему разладу с жизнью, но кто в незрелые годы не смелел от хмельного вина дерзких иллюзий, отмахиваясь от предупреждений о грозной непредсказуемости, как самого существования, так и наших никчемных о нем представлений? Только честно? Чем же, ваш филолог, лучше? Выводила из себя единственная неувязка, – сплошные осечки на личном фронте, но, в этом случае, я винил собственное призвание. Любопытствующим, охотно растолкую.
Передразнивая английского короля, посмею утверждать: если взять прямиком с улицы, любую молодуху, причесать, приодеть, да вставить в её уши бриллиантовые люстры, то можно заполучить дежурную жену олигарха. И это никого не удивит, – каковы времена, таковы и нравы, – идеология господствующей шайки диктует всему остальному миру правила жизни. В обнимку с «ну и ну» ходит совершенно другой факт: даже из двадцати миллионеровских жар-птиц и в год не слепить одной, даже самой неказистой, супруги лингвиста. Трудись хоть целый полк визажистов и портных. Загадочная особь, что без промедлений бросится коротать век с представителем означенной науки, должна быть самоцветом редчайшей породы, несущим на гранях суровую заповедь: «Ничего, кроме терний!» А все почему? Драгоценные мои, запомните и передайте другим: женихи – филологи это вам не крем-брюле. Во-первых, все они типичные идеалисты, напрочь лишенные хватки самого завалящего добытчика семейных благ, во-вторых, – постоянно витающие, где-то, в научных облаках. Можете сорок раз на дню напоминать такому избраннику про затухающий домашний очаг, он и пальцем не пошевелит, – орлы мух не ловят. Единственное, что может заставить ходячий словарь гневно выпрыгнуть из собственного переплета – простенькая просьба: « Любимый, подогрей кофе, а то оно остыло». Флегматичный котенок в одно мгновенье превратится в разъяренного льва. Увы, издержки профессии. Именно поэтому остальной мир лишний раз не суется в берлогу филолога, и имеет смутные представления о любезных ему занятиях. Разумеется, общеизвестные награды, премии, и почет не обходят языковедов стороной, – есть и в
– 3 -
их семействе и орденоносцы, и выдающиеся виртуозы своего дела, – как не быть?! Однако эти славные имена, – за исключением двух, трех, – многим ничего не скажут. С незапамятных времен бредить филологией могут только отчаянные бессребреники и безымянные рыцари слова, наивно предполагающие, что их избранницы тоже обязаны безропотно вкушать горький мед совместной жизни и никогда, ни под каким предлогом не интересоваться: « Ненаглядный, что тебе дороже, – я или твоя наука?» Сам отношусь к пестрому табору «языкарей», а посему хорошо знаю, о чем толкую. Скольких милейших созданий, готовых по незнанию шагнуть со мной под венец, бесследно растаяло в пространстве, стоило мне на втором свидании поинтересоваться, – как они относятся к жизни в шалаше, и насколько сильно волнует их лингвистическая гипотеза Сепира – Уорфа? Одна из таких перламутровых бабочек, после моего дежурного вступления, перестала впиваться зубами в спелое яблоко, врученное ей минутой раньше, недоуменно хмыкнула, нахмурилась, а потом взглянула на меня так, словно оказалась в компании завсегдатая психушки. Мгновения хватило, чтобы израненный плод полетел в кусты, а любовная лодка пошла на дно, даже не успев отчалить от холостяцкой пристани. Несостоявшаяся спутница жизни резко отстранилась, еще раз сердито хмыкнула и, не оглядываясь, застрочила каблучками к ближайшему входу в метро, оставив странного субъекта искать полоумных подружек в других местах. Нежелательное, но закономерное открытие ошарашило: книжный червь обречен на существование монаха. Вот и все комментарии.
И если бы некий оракул известил, что скоро мое бытие круто переменится, я бы в ответ только скривился. Услышав же следом, что завтра, или, самое большое, послезавтра, повстречаю любовь всей жизни, и буду на вершине человеческого счастья, радостно забыв весь прошлый опыт, – в глаза бы рассмеялся. И больше: после фантастического предсказания неизвестный провидец обязательно получил бы в лицо добрую порцию непечатных замечаний, – заливайся соловьем, да меру знай, – ишь, развелось мозгодуров на свете! И что за нужда, – не везет в любви, – повезет в чем – то другом, например в лотерею. Пока же, устраивает и монашеская, то бишь, научная келья. Так что, гуд бай, господа!
Нострадамус так и не повстречался, а вот проказник Амур уже поджидал за углом, приготовив стрелу поострее и до предела натянув тетиву волшебного лука. Коварный божок пальнул золотой спицей и филолог – одиночка, не успев опомниться, оказался в жарких объятиях молодой казачки, безмерно удивляясь и череде событий, и самому себе. Моя суженая – ряженая, коих, как известно, и на коне не объедешь, носит необычное имя Любава, – дань увлечения стариной ее матери, – служит библиотекаршей в затерянном в донских степях хуторе, затмевая округу редкостной, даже для этих благословенных мест, красотой. Слава небесам, никогда не бредила никакими научными гипотезами, но и не крутила пальцем у виска, заслышав о роде занятий, подобных моему, а из всех известных человечеству дисциплин, наиважнейшей полагала науку любви. Как потом, оказалось, и она долго жила в похожем тумане разочарований и почти махнула рукой на личное счастье, смирившись с крутыми виражами судьбы и утешаясь известной формулой невезения: видно на роду написано. Схожие, не один год сдерживаемые чувства, рванули наружу, аки джинн из открытой бутылки и накрыли нас сразу, как накрывает в горах
– 4 -
беспечных путников снежная лавина. Невзрачные будни горемыки филолога моментально сменились одной нескончаемой масленицей. И что теперь, дурень, станешь мямлить про безрадостное бытие аскета в научном чулане и любовную невезуху? Человек может только предполагать.
И все чаще, и чаще мне кажется, что эта невероятная история, под завязку набитая шекспировскими страстями, и словно плугом вывернувшая дернину моей, устоявшейся до мелочей жизни, могла приключиться исключительно со мной. Однако ж, по порядку.
Захватывающая дух эпопея началась в Москве погожим апрелем, когда в город, отходящий от зимней сутолоки, бочком протиснулась весна, заставляя каменные вертикали и живые ростки тянуться к солнечному теплу. Ничто, решительно ничто, не указывало на зачин, каких бы то ни было приключений, сумевших впоследствии легко и безжалостно расплющить мои жизненные установки, на манер слона, проделывающего подобный фокус с комком сырой глины. Эх, знать бы, где споткнуться…!
Многое, из той сумбурной поры, – лица, имена, мимолетные встречи, номера трамваев и телефонов, – уже успело не только поблекнуть, но и вовсе убраться из перегруженной всяким хламом, памяти. Что же удержалось? Длинным гвоздем в сознании засело ощущение нервозности и растерянности, которые, как всегда, сопровождают смену крупных и мелких событий, вспыхивающих и гаснувших дешевой спичкой. Нервозность возникала от пугающего галопа минутной стрелки по циферблатам наручных, настенных и вокзальных часов. Тонкая железка не просто кружила по заданной траектории, а вычеркивала отпущенное всему живому время. Чирк, – нет часа, еще прыжок, – нет целой недели, месяца, года. Страшно и неумолимо: чирк, чирк, чирк. Кажется, только вчера дворовый буян Витюня Сыромятников, ударившись в очередной запой, задирал всю округу, крича в пьяном кураже, что ему, – покорителю БАМа, – участковый совсем не указ. И вдруг незаметно сник, скукожился перезревшим овощем, коротая пенсионный век на бульварной скамейке рядом с такими же, притихшими витюнями, обмениваясь не посылами погулять, а кружочками валидола и сомнительными знаниями, как жить дальше. Тут и записной ухарь скиснет.
Вторая, – растерянность, – накатывала от невозможности быстро, – а часики тикают, торопят, – освоиться в мутных волнах незнакомого мироустройства, что за одну, две ночи смыли клокочущим прибоем все, что раньше казалось гранитно – незыблемым, как Великая китайская стена. Только что, на всех углах, пусть фальшиво, но заученно горланили: «Мы за партией идем, славя Родину делами…..», как взамен пришлось срочно запоминать « Атас! Эй, веселей, рабочий класс…». Старый мир приказал долго жить, а новый, проломив кувалдой голову плановой экономике, вел себя, как несносный и капризный ребенок, получивший в руки власть, наподобие заряженного ружья: «Не подходи, зашибу»! Правда, большинству тогда почудилось, – наконец – то, объявилась заветная дорога в земной рай, открытая для каждого жильца бывшей коммуналки под названием СССР, – только успевай шагать. Эх, ни в чем не бывает умеренным русский человек! Рядами и колоннами людишки устремились на невиданное дотоле шоссе.
– 5 -
Красота! И вдруг грянул такой гололед, что на его глади могли удержаться лишь избранные обладатели стальных коньков, а все остальные, хватая воздух руками и ртом, лавиной покатились в канавы и овраги бытия, ставшего вдруг беспросветно – серым и враждебным.
Природа, связанная с человеком незримой, но прочной нитью, тоже запаниковала, умножая сумятицу в душах и болячки в ослабленной авитаминозом плоти горожан. Зима, дотоле царицей щеголявшая по скверам и паркам в серебряной парче и жемчугах, и укрывающая городской человейник снежной пеленой, – ожидаемо выдохлась, утомившись от собственных трудов и величия. Смирившись с горькой участью изгнанницы, дохнула остатними холодами и, собрав в узелок жалкие манатки, превратилась в одночасье, в скособоченную старуху – нищенку, обживающую мрачные подворотни, да парковые овраги. Шастающим по улицам бедолагам только и оставалось негодовать, вляпываясь по самую щиколотку в грязные ошметки ее мантии. И то: неделями людишки в оранжевых жилетах с остервенением дырявили железом ее роскошное одеяние, пачкая белые складки речным песком вперемешку со жгучим натрием и еще какой-то, омертвляющей все и вся ядовитой химией, высокопарно именуя протраву города борьбой за чистоту улиц. Теперь пробил час сполна отомстить неосмотрительным обидчикам их же оружием: дворникам не хватает сил ни подмести, ни запихнуть в кузов, простуженного грузовика, солено – рыхлый тлен блистательных нарядов. Она же, оставляя монарший трон, как всегда, думала: «Почему все и во все времена грустят о вешней поре, а обо мне грешной никто и слезинки не проронит, – ведь и я прихожу и ухожу согласно божьему промыслу?»
В один из нескладных дней межсезонья, выпало мне сомнительное счастье отправиться на деловую прогулку по мегаполису. Опасливо промеряя носком ботинка глубину непобежденной коммунальщиками ледяной жижи, ежеминутно рискуя зачерпнуть ее бортом, я словно сапер по минному полю крадучись пробирался, а уместней будет сказать, подплывал, к подъезду редакции известной газеты. Как и все, тоже психовал. Правда, причина нервозности была иной. Мотив притаился подмышкой в виде казенной папки со стопкой машинописных листов, – только что законченная статья о небрежном отношении новой власти к культурному наследию, – что должна лечь на стол не простому заву, а самому заместителю главного редактора. Каюсь: случился момент, когда я малодушно хотел повернуть оглобли назад и даже остановился на подсыхающем асфальтовом лоскуте, дабы перевести дух. В самом деле, зачем же лично встречаться с незнакомыми щелкоперами, если гораздо проще и надежней послать сочинение по почте? Тут еще волглый от подтая ветерок, принялся мелким бесом увиваться у шеи, норовя проникнуть под шерстяную броню шарфа и вчистую охладить мой воинственный пыл. «Погодь, любезный, не ходи туда! Тебе, что, больше всех надо?» – нашептывал эфемерный искуситель. Напрасные труды. Устав бороться с кашемировым удавом, он скользнул в сторону и сердито набросился на ближний воробьиный табор у лужи, обдав голосящую братию холодными брызгами талой воды. Возмущенные птахи, издав дружный вопль: « Чиркунов не чистить!», пушистой картечью стрельнули по голым плечам бульварной сирени. Бронзовый Пушкин, который век, подпирающий кудрявой головой небесный свод над площадью, мудро взирал с квадратного Олимпа на эту возню, наперед зная, за кем останется последнее слово. Пусть и не живого, но пристального
– 6 -
взгляда поэта хватило, чтобы я опомнился, вздохнул и обреченно поплелся дальше. В любое другое время, с беспечностью завзятого сибарита, вдавился бы я в ребра садовой скамейки и, жмурясь от солнца, час – другой повалял дурака, наблюдая за теми же воробьями, не упуская случая оглаживать взглядом спины стройных горожанок, да просто отключился бы от гомонящего мира, проветривая голову от забот хлебнасущных. Сиди, себе,– не насидишься! Но сегодня надобно дотащиться до ненавистной, пропитанной запахом кофе и лицемерной вежливостью, газетной приемной и дотащиться обязательно. На то существовала особая причина, которая не позволяла мне увильнуть от встречи, даже если бы на залитую светояром улицу обрушился неимоверной силы ураган. Как на веревочке вела в редакцию бумажка, – предписание прокуратуры, – которая обязывала газетчиков напечатать мое сочинение. Какие уж, тут петли – вилюшки! Что же такого необыкновенного содержала рукопись, что для ее обнародования потребовался сердитый окрик нелюбезных служителей Фемиды? Если бы потребовалось сократить её текст до самого важного тезиса, – словно отряхнуть пышную новогоднюю елку от всяких висюлек, оставив главное украшение, – то им бы стало красоваться единственное слово: «Доколе?» Такое смысловое «итого». Все остальные перлы, подковыристые обороты и прочая стилистическая чепуха оказались бы не у дел. Совершенно! В самом деле: мы перестали ценить слова, милостивые государи, а ведь ими лечат и отнимают надежду, словами молятся и ими же составляют завещания и эпитафии; от неказистой фразы вдруг вспыхивает величайшая любовь, равно, как и лютая, сжигающая человека изнутри, ненависть. Хорошие и нужные слова надобно беречь, как таежный охотник бережет хлеб и патроны. На какого же охотника смахивает наше драгоценное общество, окончательно захлебнувшееся в словесных водопадах? И все- таки, на что я так злился, и что должно было прекратиться после пресловутого «доколе»?
Вначале зимы из Каразинска, – одноэтажно – чахоточного городишки, затерянного в обширных заволжских степях, – на имя моего руководителя – директора известного столичного научного заведения, – академика Веселовского, – прилетела почтовая весточка из тамошнего этнографического музея. Здравствующий патриарх отечественной филологии, вызвал меня в свой, уже давно требующий капитального ремонта, закуток и выложил на стол кровоточащую от бессилия эпистолу. Бумага, подписанная почему – то не ученым людом, а ветераном минувшей войны, отставным майором Зарубиным, сообщала, что городской царек, – он же мэр, – положил глаз на старинную усадьбу, в которой до недавнего времени и обитали музейщики. Давясь словами возмущения, письмо уточняло, что захватчик не постеснялся подмахнуть распоряжение, не токмо о переделке помещения под его ново-ханскую резиденцию, но и срочном вывозе, практически под открытое небо, всех экспонатов и, уникального во всех отношениях, архива древних актов. Целиком. Правда, прислал в подарок рулон новенького брезента. Это стало последней каплей: хозяева запасников во главе с бывшим фронтовиком, пусть со скрипом, пусть обреченно, но привыкающие к самоуправству новоявленных Скалозубов, вдруг разом взбунтовались и, вопреки ожидаемому, объявили пирату настоящую войну. На столах державных володетелей жизни залились истошным звоном телефоны. Почтальоны принялись вытряхивать на эти же столы пачки письменных жалоб. Панфиловцы от культуры кинулись под танки.
– 7 -
Раньше я бывал в Каразинске и отлично знал, что этнографы располагали не просто безликой бетонной коробкой, которых без счету понатыкано по Руси – матушке, а одним из красивейших особняков минувших и славных времен. Тех самых, когда мужчины еще не разучились вставать в присутствии дам, а те не забывали густо краснеть, услышав бранное слово. Куда же канули те благословенные деньки? Вспыхнули зарницей, и нет их! Сегодня совсем «невинная» болтовня двух желторотых, мусолящих во рту очередную сигарету, школьниц заставляет заливаться краской стыда фронтовиков, кажется уже повидавших и слышавших за войну всякое. Ну, это так, к разговору.
Бывший барский дом гнездился посередке старинного парка, отражаясь блеском мраморных колонн и всеми архитектурными завитушками в рукотворном пруду. Все это великолепие было обнесено ажурной кованой оградой, которая, сама по себе, красовалась отдельным, вполне музейным экспонатом. По весне горожане толпами валили в милую сердцу усадьбу, полюбоваться цветущими кустами сирени и, какого – то особенного, сорта роз. Здесь встречались влюбленные, резвились дети, душой отдыхали старики. Кто же устоял бы против желания завладеть этаким бриллиантом? Вот и не совладал с искушением градоначальничек. Но если бы он прибрал к рукам только стены, пусть и самой невероятной красоты, людоедский поступок выглядел бы не так цинично. Мирные этнографы потому и схватились за вилы, что малограмотный проходимец от власти прировнял к хламу заповедные сундуки, набитые под крышку такой стариной, которая могла бы украсить витрины любого мирового музея.
Хочешь – не хочешь, но требуется растолковать, – откуда богатые дары свалились в тамошнее захолустье? Чудес, как известно, не бывает. За редким исключением. Но их, иногда заменяют эвакуации. Сразу после начала войны с немцем, из Москвы, поводя стальными боками от спешки, в городишко прикатил паровоз, дотянувший в составе два опечатанных вагона с бумагами государственного фонда, еще совсем недавно закрытого на семь замков, ключи от которых лежали в карманах бдительной стражи. Когда из столицы, под вой сирен, все самое ценное поволокли на восток, настала очередь и означенного сокровища. В Каразинске бумаги и переждали беду. Как только отгремели бои, хозяева без проволочек нагрянули за увезенным скарбом. Все самое уникальное запаковали и под охраной отправили восвояси. Остальное оставили в музее до лучших времен. Вот и вся история с предысторией и концовкой.
Лучших времен пришлось ждать долго: не до книжек было ошпаренной лихолетьем стране. Фолианты, которых касались руки русских великих князей и царей застряли в захолустье. Ну, как, скажите, из такой опары, сдобренной местным колоритом и приправленной провинциальным тщеславием, не принялись бы выпекаться научные караваи, на зависть центровым хлебопекам. Последние, опомнившись, попробовали вернуть «пропажу», да им быстро показали на дверь. Скажете, так не бывает. Ан, нет! Возьмем ту же эвакуацию: когда на Урал отправляли необходимое оборудование, то для имущества небольших предприятий попросту не нашлось вагонов. Их станки грузились на платформы эшелонов, которые вывозили из столицы собственность тогдашних китов
– 8 -
отечественной промышленности. Уже на месте передислокации выяснилось, что по дороге часть станочного парка некоторых недомерков «потерялась». Конечно, никакого ротозейства не было и в помине: чужое добро присвоили себе хозяева местной индустрии, мотивируя это производственной необходимостью. История с книжными сокровищами повторилась в точности. Застолбив таким манером нежданные раритеты, каразинские «хлебопеки», не теряя времени, засучили рукава и развели пары. Очень скоро дело дошло до того, что в беседах с соискателями ученых степеней по истории и филологии зазвучал обязательный вопрос: « Каразинский архив вам знаком? Ах, вы там не успели побывать? Ну, знаете!…»
Неизвестно сколько продолжал бы висеть на родном гвозде венок научной славы зазнавшихся каразинцев, да задули ветра перемен, враз оголившие его лавровые бока и поменявшие не только приоритеты, но, кажется и само течение Волги – матушки. Наступили черные дни и для знаменитых сундуков. Родник знаний, еще совсем недавно звеневший благословенными водами и вспоивший не одно поколение местных Ломоносовых, был в одночасье наглухо забит камнями административного нерадения, вполне сравнимого с вражеским варварством. Во власть поперла «аристократия» без носовых платков. Победа золотых галунов над мозгами – не новое для Руси явление, особливо в среде царедворцев, – впервой была одержана так убийственно цинично. Правда, стародавнее и, до боли знакомое, – «Грабь награбленное»! – никто уже не кричал, но зато «Разделяй и будешь властвовать»! – свистело из всех щелей. Глава городишки, вкупе с женой, обзавелись входящими в моду графскими титулами, к которым позарез требовался соответствующий антураж. Бывшая дворянская обитель подходила для этого, как нельзя лучше. К их досаде кавалерийская атака захлебнулась, и сходу роскошную собственность прикарманить не получилось.
Веселовский, прекрасно осведомленный о моем трепетном отношении к каразинским сокровищам, поручил черкануть заметку за его подписью в одну из уважаемых газет, дабы обозначить академическое отношение к творимому произволу. Только я стал примеряться к необычному заданию, решая как бы половчее ударить по сопатке новоявленного графа, как оккупант сделал ход конем. На очередном утреннем совещании хмурый босс молча подтолкнул мне газету с заметкой, которая была обведена жирной красной линией, словно волчье логово флажками. В ней неизвестный автор, не жалея языка, расхваливал каразинского градоначальника, особо напирая на его отеческую заботу о знаменитом архиве. Всему миру была явлена уже не провинциальная глупость, а открытый демарш барина, одного из новых законодателей политической моды.