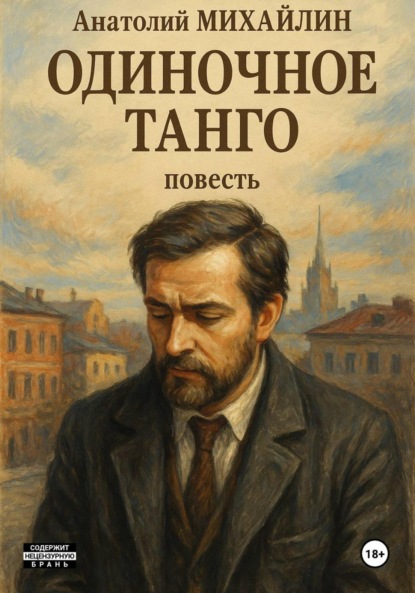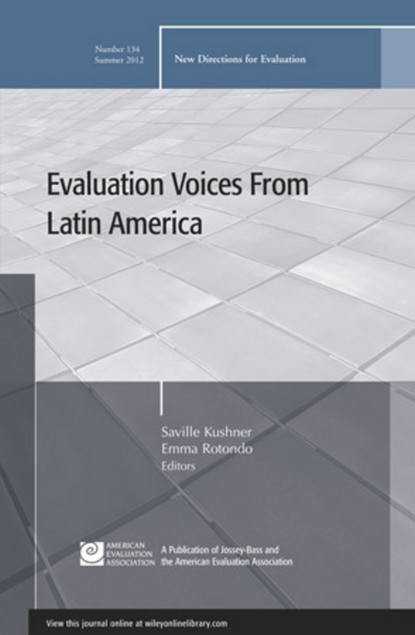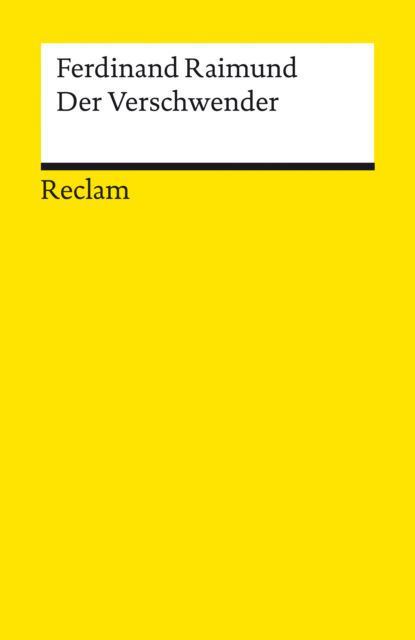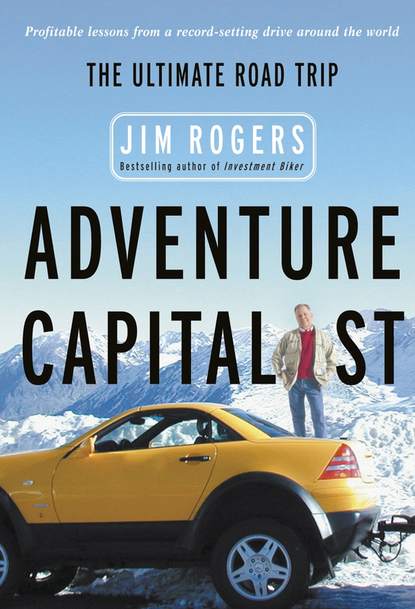- -
- 100%
- +
– А, что же, мы, отчего до сих пор молчим мы? – устало поинтересовался шеф, вперив в меня, покрасневшие от ночного бдения за компьютером, глаза. – Эти, – он мучительно принялся искать синоним понятию «глава муниципального образования», но, с ходу не обнаружив такового, продолжил, – эти скоро начнут большую нужду справлять на наши несчастные головы, а мы станем утираться. Помолчал. Не дождавшись реакции, ответил за меня:
– Да, да, милостивый государь, станем – с! И с реверансом – с.
– 9 -
Замечаю, как краешек рта академика порывисто задергался. Так случалось всегда, когда он бывал чем – то сильно удручен и, что быстро исправить не позволяла ни его научная, ни руководящая компетенция. За то долгое, бесконечно долгое время, которое незаметной струйкой утекло с нашего, как оказалось, последнего разговора, многое уже подзабылось, – размылись и угасли даже привычные черты директорского лица, – но его нервный тик застрял в памяти навечно, как уланская пика.
– Действуйте! Действуйте, как можно решительнее и, главное, не мешкайте: на улице под снегом беспризорное богатство, – наставлял меня академик. – В Великом Новгороде найдут одну берестяную грамотку и то носятся с ней, как с алмазом, а там, помилуйте,– для науки может бесследно пропасть целый вагон сокровищ! Я понятно излагаю?
Как все начальники, молча смерил меня изучающим взглядом, словно прикидывая, а стоит ли и дальше иметь дело с заблудшей овцой и язвительно предположил:
– Может, от излишнего усердия притомились, об отпуске мечтаете?
– Благодарю за заботу, но в отдыхе не нуждаюсь, – парирую его выпад.
– Тогда за дело, почтеннейший! За то главное и единственное, которому все мы, грешные, служим в этих благословенных стенах, получая, между прочим, пусть и не отменное, но регулярное государственное жалованье.
«Обласканный» сердитым маршальским взглядом, тем же вечером засел за подготовку разящего плевка в лицо агрессору. Слова возмущения, единожды попав в сознание, теперь остро прорастали во мне, как прорастает диковинная рассада, отнимая сон и мешая думать о чем – то другом. Они сплетались в змеиный клубок и угрожающе нависали над моим бытием, властно заставляя браться за перо, как за топор возмездия. Наконец, мои вампиры были помещены на бумажные листы и оформлены в некоторое подобие газетно – статейной клумбы. Я с облегчением вздохнул, и утром засобирался на рандеву с главным заказчиком. Но встречи не получилось: наш бог, царь и воинский начальник укатил в неплановую загранкомандировку, не оставив для меня никаких указаний. Потолкавшись без дела в приемной, уже собрался отбыть в родной отдел, памятуя поговорку: « Что провидение ни посылает, – все к лучшему!», как в дверях был перехвачен вальяжным заместителем директора по научной работе Подгузковым.
– Что с ответом графу – врагу культуры и всего прогрессивного человечества, – поинтересовался зам после дежурного приветствия, – не пора ли устроить ему графские развалины?
– Броня крепка и танки наши быстры! – отвечаю в тон и протягиваю готовую статью, – Но тут закавыка: ее «автор» в отъезде, а без визы, сами понимаете, отсылать бумаги далее не имею юридического и морального права.
– Не велика беда, – хмыкнуло начальство, – давайте сюда, сами завизируем.
– 10 -
Было бы предложено, а за нами дело не станет: пожал – те, вашбродь, получите многострадальное творение директора. Вручаю черновик. Он торопливо прокатился глазами по тексту и…. начал читать сначала, но лицом посуровел и, как – то странно пару раз зыркнул на меня, словно впервые встретил.
– Да – а, батенька, лихобористо вы его приложили. С таким присловьем даже в тюрьму не пустят, а сразу вот так, – он полоснул ребром ладони по горлу, показывая, что ждет строптивца после публикации. – Начнется перепалка, звонки – разговоры, выяснения, а то и жалобы. Предлагаю поступить по другому, – завилял «наука», – скоро в институтских стенах соберется преогромная конференция, – на ней именно вы, а не академик, выступите с этой…, с этим…, в общем, с вашим, то есть, уже нашим особым мнением. Уточняю, – новая задумка понятна?
– Чего тут понимать? – хотелось гвоздануть мне, – кое – кто решил замылиться за спины ученой ватаги. С толпой филологов, как с рассерженными осами, связываться никто не будет, а оплеуха получится весомей, но уже без персонального рукоприкладства. Прямо детсадовская мудрость. Однако счел за благо промолчать.
Через неделю ученое сообщество съехалось в Москву для разговора о делах насущных, не терпящих проволочек. Первым, как водится, выступил шеф, прилетевший накануне из Парижа.
– Филология не просто наука, – вынул он из рукава проверенный козырь, окинув орлиным оком аудиторию, – филология – высшая форма гуманитарного образования, которая, как заботливая и очень внимательная наседка, матерински объединяет под своим крылом все гуманитарные дисциплины. Слышите, – все! В силу этой непреложной истины, уважающая себя нация начинается с грамотного пользования собственным языком, а не с ракет или балета, в области которых, как известно, мы впереди планеты всей. Не будет танцев, – нация выживет, даже при условии, что обеднеет в культурном плане, – уж вы мне поверьте, – но, если, не приведи Господи, умрет ее язык, – нации конец! И никакие ракеты уже никого не спасут. Мы сегодня защищаем, пожалуй, самое ценное – право нации на самоопределение. По этому полю проходит генеральная линия обороны. Исходя из этого, разрабатываются тактические планы боевых действий. Мы с вами на самом настоящем фронте и не понимать этого может только травмированный на голову футболист. Шквал аплодисментов чуть не снес крышу. Да, филологи тоже люди и, притом, весьма сентиментальные.
Мое выступление было заявлено пятым или шестым. Но вот уже и шестой докладчик, освежив гортань стаканчиком дежурной минералки, спускается в зал, а меня никто не кличет. Что за оказия? В перерыве прижимаю Подгузкова к стенке: «Что происходит, когда мне дадут слово?»
– Ничего особенного, – отвечает бодрячком, а сам, воровато отводит глаза, сосредоточенно рассматривая люстру под потолком, – просто шеф порекомендовал
– 11 -
зачитать твой текст на закрытом семинаре. Только и всего. Кстати, мне отменно влетело за то, что до сих пор не отдали статью в печать. Еле, брат, выкрутился. Тебе под занавес тоже приготовили отменную взбучку.
И уже со снисходительной укоризной:
– Умеешь ты, круглое сделать квадратным, усложнить то, что можно решить просто и без выкрутасов.
Приехали! Стоп, стоп, – идея была совсем не моя! Набираю воздуху в грудь, чтобы разрядиться праведным гневом, но вижу, как Подгузков растворился в толпе. Что делать? Говорите, – зачитать при закрытых дверях? Ха, зачитаем! Огласить? Огласим. А как же, – согласно начальственной воле. Но, простите, не взаперти.
И когда конференция уже болталась на самом кончике своего бытия, и ведущий сделал традиционный шаг, вопросив зал, – «Есть ли какие дополнения, уточнения, особые замечания?» – я с места выкрикнул: «Есть!» Меня любезно пригласили высказаться. С ходу в карьер бросаюсь крыть последними словами власть чиновного люда, особенно перечисляя его огрехи в нескладывающихся отношениях с наукой. Разминка проведена. Гоню тройку под гору: «Нам, что, – откровенно наплевать на Каразинский архив? Чего все, как в рот воды набрали? Если никому до него дела нет, надобно попить в буфете газировки и расходиться по домам»!
Думал, одернут. Однако ж, меня весьма уважительно попросили проинформировать ученое собрание поподробнее и не перебивая, выслушали. Подгузков испуганно и ненавидяще таращился из зала, словно вопрошал: « Да что такое позволяешь, ты себе, кандидатишка несчастный?» Плевать! Неожиданно завершаю выступление совсем уж несусветным предложением: « Прошу мой доклад считать официальным обращением в Генеральную прокуратуру. Хватит утираться по поводу и без повода. Настала пора ставить дураков к барьеру»! Во, как! А вы, что хотели? Предупреждал же, – танки наши быстры, а для них подобный напор – норма. Делегаты – вот молодцы! – также не стали разводить дебаты и быстро согласились с моим посылом, тут же поставив подписи под заявлением. И какие подписи: живьем шесть академиков, не считая ученой братии калибром помельче! Теперь статья, она же официальная бумага, увесистой болванкой полетела к экзекуторам.
Прокурорские, придавленные собственной крутизной, для виду вяло попротивлялись, но в итоге обязали газету напечатать особое мнение ученых. Вооруженный предписанием я и поплелся злым вестником в редакцию. Опущу для краткости полемику со строгим газетчиком и его юристом, весьма отчаянным пройдохой, – на всем ее протяжении пытавшихся срезать меня на том, что местным бывает лучше знать положение дел, особливо напирая на слово «знать».
– Оно, может и так, – огрызнулся я, – но, согласитесь: шести академикам дальше видать.
– 12 -
Меня попросили оставить реплику в канцелярии и следить за тиражом. Они, де, не побегут по судам и непременно, и даже с радостью, сделают исключение для научной рати. С обязательной публикацией ее мнения. Уверяли: ждать не придется. Ага, если бы? Банда газетчиков придирчиво читала и смотрела на просвет готовый черновик, не без ужимок и сомнений, выбрасывая из него целые абзацы, при том категорически запретив упоминать главных рулевых. Несколько раз приходилось наведываться в редакцию, дабы завизировать очередной вариант статьи. Уже перед самой публикацией мне зачем – то устроили встречу с попечителем уважаемого издания.
Отделенный от меня массивным столом красного дерева, худющий попечитель, похожий на плохо выспавшегося человека, восседал, на широченном троне, совсем утонув в его кожаной пасти. Долго молчал, высверливая во мне не мигающими глазами дыры и дырочки. Едва не лопаясь от натуги, этот ухоженный, задрапированный в иноземное облачение пузырь, явно намеревался сотворить то, что не получилось у подчиненных: задавить мелкую козявку – филолога административным весом. Хотя, какой вес может быть у пузыря? Волей случая, попадая во власть, воздушно – сферические фигуры кожей ощущают диспропорцию между своей истинной значимостью и весом занимаемой должности. И чем больше такой разрыв, тем отчаянно – лихорадочнее они вынуждены восполнять недостающие объемы тоннами заморского дерева, длиннющими лимузинами, загородными домами и драгоценными блестяшками. В своих, и без того, навороченных кузницах счастья, они изгаляются друг перед другом еще и обустройством «предбанников». Однажды в гигантской приемной очередного пузыря довелось узреть аквариум, в котором свободно могла бы поместиться пушкинская русалка вместе с заповедным дубом. В застекленном озере кружилась в надменном одиночестве, лениво перебирая хищными плавниками, всамделишная зубастая акула, доставленная прямиком из тропических морей. Чтобы любопытным посетителям не закралась в голову мыслишка, – а на чьи деньги гуляем господа? – к гранитному основанию водоема привинтили золотую табличку, гласящую, что это подарок олигарха такого – то. Акулы дарят акул. Новая мода становится нормой.
Кто – то из армии хватов – имиджмейкеров подсказал пузырям еще один способ «утяжелить» себя: в разговоре с любым собеседником непременно использовать затяжную паузу. Вот и мой, похожий на ядовитую змею, властелин кабинета явно придерживался этого правила. Как всякий сорняк, успевший глубоко укорениться в казенном навозе и заматереть колючим стеблем, – надорвешься вырывать, – он умело держался новомодной стратегии, смущая посетителя своим отрепетированным глубокомысленным молчанием. Обнаружив, что гость никак не реагирует на любимый прием, он делано поправил на запястье золотой оковалок с циферблатом и предпринял последнюю отчаянную попытку отравить во мне желание обнародовать, как он произнес, « уйму не бесспорных умозаключений ».
– Мы хорошо помним ваши превосходные материалы по творчеству Александра Афанасьева, – раздражающая пауза, – так давайте, давайте еще! Мы с удовольствием
– 13 -
напечатаем, – искушал меня демон – попечитель. – Даже, – опять закис в пространстве, – заплатим вам вперед. Хо-ро-шо заплатим! Договорились?
Ого, на позицию выкатили крупнокалиберную артиллерию!
– Афанасьев не нуждается в защите, у него есть своя тетушка, – вспомнил я фразу из какого – то фильма, отрезая пути к ненужной дискуссии. Он удивленно вскинул брови, силясь уяснить смысл сказанного, пожевал губами и сдался, но напоследок, демонстрируя ученость, резко спросил: помню ли я слова Ушинского о том, что «высказать смелое слово истины иногда опаснее, чем подставить голову под пули»? Пришлось кивнуть. На том и разошлись. Прошла неделя с нашей встречи, и еще не единожды правленое обращение, кастрированным жеребцом, выпустили наконец из тенёт. Впервой увидев его на газетной полосе я, признаться, не сразу признал собственное сочинение, но даже обрадовался: канет оно в реку забвения, на том и затее придет конец. Но не тут – то было, – даже в таком обезображено – смиренном виде моя отповедь вызвала в «верхах» некоторое замешательство. Кто бы мог предположить, что многострадальную статейку, зажатую со всех сторон словесными кирпичами, не только заметят, но и сделают кое – какие выводы. Малюсенький камушек протеста, из тех, что стремнина событий смывает и уносит целыми тоннами, вдруг затесался промеж каких – то шестеренок неповоротливо – гигантской бюрократической машины. Конечно, он не затормозил, да и не мог затормозить кручение – верчение административных колес и колесиков, но произвел непривычный для уха столоначальников шум. Так случается в моторе грузовика, который взбирается на крутой холм, дрожа от напряжения: стройное стенание всех его клапанов и валов вдруг перекрывает непонятный стук или визг, исторгнутый из глубин железного нутра. В такие моменты опытный рулевой враз вспоминает о техосмотре и, при первом удобном случае, лезет с инспекцией в промасленные кишки стального коня. Иначе, сливай воду.
В моем случае поступили аналогично: через два дня факсовый аппарат выплюнул на рабочий стол бумажную портянку. Читаю и глазам не верю: приглашают поучаствовать не только в создании государственной комиссии « по обсуждению конкретно указанных автором и другим актуальным вопросам», но и в получении каких – то таинственных грантов на латание прорех в куцей одежонке отечественной культуры. Оцените, мол, уважаемый критик, скорость реакции на ваше ученое «фи»! Наступила очередь моего замешательства. Первым делом, на ум пришло единственное, – неизвестный доброхот из чиновного люда подсунул газету кому – то из власть имущих, и эти самые имущие решили познакомиться с сочинителем поближе. Интересно, но, как говаривал в армии мой ротный, слишком правдоподобно. А что другое? Ответа не нашел. И если причина приглашения в целом была понятна, то адрес проведения первого заседания комиссии, – известный коммерческий банк, – озадачил. Но потом я стал рассуждать: все, за что ни возьмись в наше интересное время, абсолютно все, – делается либо руками банка, либо с участием банка, либо в силу его гарантий. Чего ж, озадачиваться, – миром стал заправлять его величество чистоган. Слава небесам, что хотя бы детей не принялись
– 14 -
планировать и делать с привлечением вездесущих кредиторов. Ну да еще не вечер, – уважаемые россияне, еще не вечер….
В заповедный день и час приехал я в указанное место. Эх, хорошо и радостно человеку на душе, когда идет он в гости и знает, что там, в гостях, ему будут сердечно и открыто рады, и где его ждет настоящий праздник. Хозяйка к приходу дорогого визитера подбирала скатерть, и доставала новые тарелки. Глава семейства придирчиво изучал бутылки с выпивкой. Что и говорить: уже в прихожей в душе будущего сотрапезника расцветают розы признательности. Еще лучше человеку становится от чапорухи, до краев налитой радушным хозяином водочкой, багряным ли винцом: только и останется, что подцепить вилочкой жирный, отливающий лунным серебром кусок сельди или шляпку грибочка с увязавшимся вдогон кружком лука и ахнуть за здоровье присутствующих. И обязательно поддержать умный разговор о делах государственных иль вспомянуть года, что просочились сквозь пальцы, как сочится яичный желток из разбитой скорлупы. Увы, в заведении, в которое я торопился, мне никто ничего не нальет и не выставит, как и большинству залетных посетителей. Сюда желанным гостем, скачущей походкой, ходит только его хозяин, озирая улицу своими водянистыми глазами, словно прикидывая, что бы еще прикарманить, да еще шастают лощеные радетели новых порядков, от которых хозяину что – то нужно. Все остальные – враги! Без всяких оговорок и сомнений. Вот и торчат здесь и там неприступными твердынями, на манер средневековых крепостей, ухоженно – одноликие нарывы с гордыми вывесками и набором всех необходимых атрибутов для отражения осады: решетками, ничем непробиваемыми воротами, броневиками и многочисленным гарнизоном охраны. Недавно со знакомым полковником милиции мы подсчитали на досуге, сколько народу охраняет непосильно нажитое банковское добро. Получилось, что эта карманная армия числом догоняет регулярную. Понятная, но грустная, арифметика.
Нужное здание отыскалось сразу, – громоздилось заметной тушей, словно танкер, под палубу набитый деньгами, который с размаху въехал на площадь, растолкав по сторонам невзрачных малоэтажных собратьев. Доживающий век каменный сгрудок испуганно таращился на монстра подслеповатыми глазами – окнами с крашеными перекрашенными фрамугами, силясь угадать: задавит он его окончательно или милостиво разрешит еще немного покрасоваться рядом. Миновав строгие пропускники, – как в тюрьме, – и, поплутав по коридорам, застеленным дорогущими ковровыми дорожками, я очутился перед массивной дубовой дверью с золоченой табличкой «Начальник департамента».
В приемной, на широченной ковровой лужайке, уже гомонил разнокалиберный и разновозрастной народ, состоящий сплошь из охранителей отечественной культуры. Закатывал глаза знаменитый, всюду поспевающий кинорежиссер, листали книжку два литератора, громко спорил с собеседником высокий обладатель гранитной негнущейся спины с генеральскими лампасами на штанах. У стола белой жердиной замер служитель непонятного культа со сверкающей нагрудной бляхой. Бесшумно сновали и затаивались прочие, беседующие вполголоса, спасители. Невольно прислушался к обрывкам фраз.
– 15 -
Обожгло слух сетование об упадке интереса к военной культуре, на все лады повторяемое носителем широких погон. Хм, положим у наших военных все свое, все обособленное, но чтобы еще и какая – то отдельная культура!? Решаю отметиться для вежливости в канцелярской книге, да и отчалить втихомолку от этих благословенных берегов, – затеряться бедному филологу в таком хороводе комиссионеров легче легкого, – чего же время терять, и кто хватится? Так бы и ретировался, да не получилось, – в локоть больно впились чужие пальцы. Кто там еще? Оглядываюсь и вижу университетского профессора Радомыслова, облаченного в темно – зеленый велюровый пиджачок. От этого, а более от пышной седой прически, сильно смахивающего на полу – облетевший одуванчик. Старик, привыкший держаться на подобных собраниях особняком, мне искренне обрадовался, как – то не по годам резво оттащил за рукав к широченному окну: « Досточтимый коллега, если молва не врет, – а она точно не врет, – на последнем ученом совете в вашем филологическом улье вы заявляли тему «Этимология песен Всевеликого войска Донского» и даже успели поскоблиться из-за этого с высоким начальством»?
– Заявлял, – отвечаю, подивившись про себя радомысловской осведомленности, – ну и что с того: кто денег даст на экспедицию? Тут одним заявлением не отделаешься. Шпионы должны были вам сообщить, что на моей «Этимологии» уже поставили жирный крест. Необходимых средств на длительную экспедицию, увы, не дадут.
– А что, так?
– Из-за моей неопытности. Не нужно было петушиться, требовать объяснений, взывать к этике, доказывать, что тема не избитая и все такое. Мне просто сунули под нос пятитомник ростовчанина Александра Листопадова «Песни донских казаков»: знаком? Ответил им, что хорошо знаком и не раз встречал в институтской библиотеке.
– А если видел, чего ломишься в открытую дверь? Раку с клешней, милок, не стоит лезть туда, куда ступает конь с копытом. Усек?
– Помилуйте, – отвечаю, – да ведь это, пусть и весьма замечательный, но материал полувековой давности и он совершенно другого пошиба: Листопадов – фольклорист, у него ни анализа, ни ссылок. Филологией в этих книжках и не пахло. Самое большее – этнографией. Ему, конечно, честь и слава, но я же, в отличие от него, не хором руковожу. И потом, кто сказал, что на Дону не появились песни уже нового времени, – жизнь не стоит на месте. Куда там? Цыц! – он и в Африке цыц! Ни гроша не дадут.
– Голубчик, не спеши отступать, вот эти дадут, – кивнул он головой на дубовую дверь.
– Эти?! Думаю, поматросят и бросят. Впрочем, просить я не умею, не обучен – с.
– Путаете понятия. Вы не просить боитесь, а клянчить. В благословенные дни моей юности в ходу была замечательная манера испрашивать средства. Не клянчить, а именно испрашивать. Оказывать честь меценату. Заниматься таким промыслом, сударь, можно и
– 16 -
должно уметь, не в обиду будет сказано. Это, брат ты мой, целая наука, – перешел он вдруг на «ты» и на заговорщицкий шепот, – а я в ней, представь, академик! Он замолчал, принявшись буравить меня глазами, ожидая узреть бурную реакцию на сказанное. Таковой не последовало. – Ладно, – опять зашелестел старикан, – хочешь, сегодня же, прямо здесь, сделаю тебе царский подарок? Будешь поминать старого перца добрым словом. Получив очередную порцию моего замешательства, взялся за дело более решительно, – Не согласишься, – больше никогда руки не подам, как ренегату от науки!
– На подарки надобно отдариваться, – насторожился я. – Чем буду обязан?
– После расскажу, а сейчас пошли пятые точки просиживать.
Двери распахнулись, – мне даже показалось, что зазвучал орган, – живописная ватага повалила внутрь кабинета, в стенах которого можно было при желании сыграть в футбол. Начальником департамента оказался худосочный курносый юнец, в обтягивающем голубом костюме, всю встречу просидевшим насупой, думая о чем – то своем. И только в самом конце, когда кинорежиссер похвалил его юношеский труд, – в виде такой же худосочной брошюры о славных деяниях новых демократов, обозвав его книгой, – заметно оживился, приласкав взглядом говорившего, как ласкает языком мать – кошка любимого котенка. Я ожидал, что кинодеятель замурлычет от счастья, но не случилось. Наконец повиляв, кривая разговоров уткнулась в обсуждение – кому первому выпадет счастье припасть к финансовому роднику. Соискатели наперегонки кинулись доказывать, что именно его задумка самая стоящая, самая нуждающаяся в немедленном воплощении и если собрание с этим не согласится, то на национальной культуре можно будет поставить крест. На всей сразу!
Банковскому верховоду надоел торг и он дважды, словно приканчивая надоедливую муху, хлопнул ладонью по крышке стола. Воцарилась гробовая тишина. Борцы за культуру изготовились проглотить грозный вердикт. Но вместо финансового приговора они вдруг услышали дребезжащий голос Радомыслова: « Я прошу прощения у всей досточтимой аудитории, но сначала не помешает оказать помощь моему молодому коллеге, который скромно молчит, но о котором недавно говорили «там». Все повернули головы в его сторону и узрели, как сухой профессорский палец медленно распрямляется и многозначительно указывает на потолок, а потом так же неспешно на меня.
– Да, да, я в курсе, – поспешил успокоить профессора хозяин кабинета. – Мы, безусловно, безусловно, окажем содействие. Это даже не обсуждается! Наша святая обязанность радеть о сохранении отечественной словесности.
Я чуть не поперхнулся от новости: ростовщики взялись сеять доброе и вечное? Либо вся мировая история капитализма – пасквиль на достойных служителей презренного металла, – либо культура стала таким же товаром, как табак или куриные окорочка. Ну и времена грянули: от навоза понесло фиалками. Возражать, правда, никто не рискнул. Вот таким манером я заполучил желанные средства на полновесную экспедицию и был
– 17 -
направлен прямиком в степные, отцветающие майским сполохом края, собирать по крупицам рассыпное золото местного фольклора. Грибков и водки не откушал, но из гостей ушел сыто – пьяным. Правда, не попадись я тогда на глаза Радомыслову, никакой истории могло и не случиться. И, уж конечно, разминулся бы, ваш покорный слуга, с любовью всей своей жизни. Это присказка, господа – товарыщы, сказка впереди.
Чуть не забыл, – после газетной артподготовки, захватчику – графу быстренько свернули шею. Устраивать неразбериху и воровать, оказывается можно, но, во время этого сладкого процесса, попадаться и нарушать тишину, увы, нельзя! Никому и никогда! Представляю, с каким неудовольствием этот волк покидал теплую овчарню, не успев утолить разгулявшийся аппетит. Конечно, он остался при своем мнении. Да и, вряд ли, в силу алчной натуры, мог от него отказаться; еще Салтыков – Щедрин писал: « Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать…?» Очень скоро я получил от обиженного «графа» желчную эпистолу, в которой меня обвиняли во всех смертных грехах, особо напирая на отсутствие простого человеческого сочувствия и понимания момента. В конце сочинения красовалась суровая приписка, что, дескать, история нас еще рассудит. Ох, как рассудит!