Рукописи, найденные в старом чемодане. Сборник рассказов
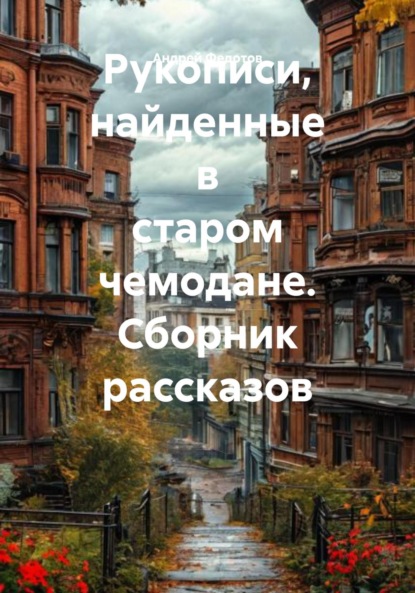
- -
- 100%
- +
Вся проблема была только в том, что свои знания Ганс не умел облечь в пышную латынь – первейший признак учености, вследствие чего считался собственным сыном невеждой и профаном.
Это не мешало Альберту иметь неограниченный родительский кредит на свое содержание в пансионе и расходы, которые неизбежны, если хочешь сохранить добрые отношения со своими приятелями.
Впрочем, Ганс и Розмари не жаловались, много ли им вдвоем было надо при бережливости, с какой вела хозяйство домовитая Розмари?
6
Прошло восемь лет.
Мастера Ганса избрали старшиной Цеха кукольников, и теперь в его доме на берегу ручья Штадтбах постоянно проживали два юноши-подмастерья. Парнишки жили в мастерской, в отгороженном углу рядом с печкой, старательно перенимая ремесло мастера Ганса и помогая по хозяйству Розмари.
В вечерние часы отдыха Пауль искусно играл на гармонии, а Питер подпевал ему звонким голосом, исполняя «Рыбак с Боденского озера», «В зеленом лесу, где иволга поет», «Голубые цветы горечавки», «Мы любим бури», «Песня тирольского стрелка» и по заказу Розмари – «Мама, где ангелы живут?».
Ганс был строгим, но справедливым наставником, а Розмари, вспоминая рано оторванного от родной семьи Альберта, старалась посытней и повкусней накормить веселых и работящих подмастерьев.
Что и говорить, парнишки как сыр в масле катались.
Ганс вскоре привязался к ним, как к родным сыновьям, а Розмари, глядя на «приемышей», думала об Альберте, который к тому времени, закончив пансион братьев-пиаристов, поступил в Геттингенский университет.
Он теперь писал родителям, когда ему нужны были деньги, а домой не приезжал вовсе.
Деньги ему безотказно пересылались через почтовую контору, хотя дела у Ганса шли уже не так хорошо, как прежде. И причиной тому были не два лишних рта в доме.
Вековые порядки и традиции трещали под напором перемен.
Вне городских общин появились Freimeister’ы, которые не подчинялись цеховым уставам и ограничениям, угрожая цеховым мастерам-кукольникам бесконтрольной конкуренцией не только количеством производимой продукции, но и применением новых, более дешевых и производительных способов изготовления кукол, используя в качестве материала папье-маше.
Эти «бумажные» куклы были в разы дешевле деревянных и, особенно, фарфоровых и охотно раскупались людьми всех сословий.
Ганс и думать не хотел о замене фарфоровых голов, рук и ног своих кукол на бумажные, решив держаться до конца, который, как он предчувствовал, был не за горами.
Однако он ошибся в сроках.
Европа напропалую веселилась и тратила деньги на удовольствия, мало обращая внимания на нарастающий гул «французского Везувия».
Минуло еще пять лет.
Питер и Пауль, завершив обучение, по цеховым законам должны были для усовершенствования своего мастерства отправиться в странствия по землям и городам, подвластным вдовствующей правительнице Священной Римской империи Марии Терезии Вальбурга Амалии Кристине – женщине по истине выдающейся, о которой у нас мало знают.
Ганс отправил их в дорогу, снабдив прочной одеждой и теплыми шерстяными плащами для защиты от дождей и ветров, крепкими башмаками – ведь, путь обоим предстоял не близкий, а Розмари вложила каждому в дорожные мешки по паре связанных ею шерстяных носков и ночных колпаков, чтобы молодые люди не простудились, ночуя на постоялых дворах. Кроме этих необходимых вещей в мешках нашлось место для копченой бараньей ноги, вареной телячьей печенки, десятка вареных яиц, каравая ржаного хлеба, пирога с тушеной капустой и банки со сливовым вареньем. Питер и Пауль, как все молодые люди, любили полакомиться сластями, которыми их по воскресным дням баловала Розмари.
Когда подмастерья покинули гостеприимный дом, в котором провели пять славных лет, Ганс остаток дня провел в одиночестве в своей притихшей мастерской, несколько раз принимаясь за дело, но всякий раз откладывая работу в сторону. Когда он поднялся в жилую половину дома, то застал Розмари с красными от слез глазами.
7
Однако, вскоре произошло событие, которое развеяло их печаль, заставило воспрять и строить сладостные планы – было получено от Альберта письмо, в котором он извещал их о своем намерении в скором времени жениться и в последующем вернуться на родину.
В письме была приписка с прозрачным намеком на желательность получения денежной помощи для покрытия свадебных расходов.
Полученная новость так взволновала обоих, а особенно – Розмари, что незамедлительно Альберту была выслана значительная сумма денег из средств, предусмотрительно отложенных на старость.
Теперь им было о чем поговорить и помечтать за чашкой утреннего кофе, за обеденным столом и вечерней трапезой.
Жаль только, Альберт не написал ни слова о своей невесте, что заставляло Ганса и Розмари теряться в догадках по поводу своей будущей невестки. Впрочем, Розмари ради счастья Альберта была согласна с любым его выбором.
Ганс, чья пылкая любовь к жене с годами превратилась в глубокую привязанность, был согласен ни больше ни меньше как на появлении в доме копии своей Розмари и, помня свои непростые отношения с сыном, был осторожен и немногословен при обсуждении этой темы, вызывая неудовольствие своей доверчивой супруги.
Однако, все произошло совсем не так, как они себе это представляли.
Альберт поначалу приехал один, оставив жену в Мюнхене. Теперь он был важной птицей, носил чин комерц-советника и был назначен указом короля Карла Теодора II инспектором Монетного двора и торговли в своем родном Гюнцбурге.
Строгий, но модного покроя сюртук с двумя рядами серебряных пуговиц, белоснежного полотна рубаха с накрахмаленными жабо и кружевными манжетами, шелковые штаны и чулки, изящные туфли, шляпа невиданной формы с конической тульей, и, наконец, крупный перстень на среднем пальце правой руки, затянутой в черную лайку, придавали ему вид столичного щеголя, но строгое и значительное выражение красивого лица заставляло предполагать в нем человека делового, с твердой волей и железной хваткой.
Первым это испытал на себе бургомистр Питер Глюк, поначалу вознамерившийся свести официальный визит Альберта к легкомысленной болтовне насчет возвращения блудного сына в родные стены, но вынужденный после его ухода сказать самому себе, а после повторить срочно вызванному казначею «Этому парню палец в рот не клади».
Переночевав в родительском доме, Альберт за чашкой утреннего кофе заметил, что дом давно требует ремонта и наведения порядка, и он, если отец и мать не возражают, тотчас займется этим, дабы его молодой жене не было стыдно приглашать к себе с визитами благородных дам, с которыми она по приезду сведет знакомство.
Розмари была очарованы одной мыслью о приемах, которые будут устраиваться в их доме, и даже на мгновение представила себя в роли скромной помощницы молодой хозяйки, потчующей важных гостей домашними лакомствами, приготовленными своими руками.
Простим ей это невинное тщеславие. Ей было невдомек, что в своем лучшем, но давно вышедшем из моды платье она могла сойти лишь за простоватую служанку.
Ганс, чувствуя, куда клонится дело, и испытывая острую обиду на бесцеремонное поведение Альберта, а более всего – на Розмари за ее наивное и слепое повиновение неприкрытому эгоизму сына, сурово молчал.
Впрочем, Альберт отнюдь не нуждался в его одобрении своих планов. Во всяком случае, скоро в верхней половине дома весело зазвенели пилы, бойко застучали молотки, запахло столярным клеем, масляными красками, лаком, алебастром; плотники, печники, мебельщики, обойщики, ткачи, гончары-посудники, кузнецы и стекольщики наперебой предлагали свой товар и, получив заказ, со всех ног бросались его выполнять.
К тому времени Альберт в совершенстве овладел искусством держать себя строго с подчиненными и зависимыми, с достоинством – с равными и предупредительно – с высшими.
Поэтому не удивительно, что все его распоряжения выполнялись без задержки.
А что же Ганс и Розмари? Они со всем своим скарбом перебрались в нижний этаж дома, кое-как распихав по мастерской свою старую, служившую долгие годы верой и правдой мебель, пока со временем не нашли всему свое, пригодное место.
Одна кукушка, обитавшая в деревянном футляре настенных часов, отнеслась к перемене обстановки беззаботно, что, впрочем, не удивительно, учитывая сомнительную славу этой легкомысленной птицы.
Наконец перестали звенеть пилы и стучать молотки, мебельщики привезли на подводах и занесли на верхний этаж укрытую пахучими рогожами новую мебель; с величайшей осторожностью, в лыковых коробах, заполненных опилками, доставили драгоценную фарфоровую посуду и всевозможных форм и размеров сосуды, рюмки, бокалы и фужеры из сверкающего богемского хрусталя для разогревающих кровь и веселящих дух гостей напитков; слесари укрепили окна и двери хитроумными запорами.
Напоследок явился садовник с землекопами, которые первым делом выкорчевали росшие без стеснения заросли белого жасмина и розового шиповника и на их месте проложили от дома к ручью Штадтбах песчаную дорожку, обсаженную с боков пышными кустами гордых роз.
Как ни хотелось Гансу и Розмари взглянуть на заново отделанные жилые покои, но им ничего не оставалось, как дожидаться приезда задержавшейся в столице Изольды.
8
А та, словно, и не спешила соединиться с супругом под наново обустроенным семейным кровом.
Сказать по правде, так оно и было. Изольде, выросшей при королевском дворе, страсть как не хотелось менять бурную столичную жизнь на скуку провинциального городка.
Покажите хотя бы одного человека, которого не интересовали бы досужие сплетни, просочившиеся сквозь непреступные с виду стены и башни королевского дворца.
Самый ничтожный дворцовый лакей мог рассчитывать на самый радушный прием в доме зажиточного горожанина в обмен на пустяковую подробность из повседневной жизни королевского двора.
И кому, как не Изольде, было знать цену сплетни, если учесть, что ее отец служил во дворце не кем-нибудь, а первым королевским скороходом.
Однажды он опрометчиво поспешил с сообщением новости, касавшейся королевской фаворитки, в результате чего лишился придворной должности и всякой надежды на пенсию. С невероятным трудом ему удалось устроиться помощником королевского палача. И то только потому, что прибыльные прежде должности палача и его подручного из-за нагрянувшего, как чума, просвещения потеряли былое значение и, что того хуже, перестали кормить своих обладателей и, соответственно, их семьи.
Поэтому не удивительно, что отец Изольды, не теряя зря время, присоединился к королевскому палачу, утолявшему свое разочарование жизнью чрезмерным употреблением шнапса и крепкой вишневой настойки.
В дружной компании этот процесс пошел гораздо веселее, в результате чего тот и другой в скором времени расположились по соседству на придворном кладбище, сами того не подозревая, перевернув очередной лист истории, ибо за этим, согласитесь, печальным событием последовал королевский указ, навечно упразднивший должности королевского палача и его помощника.
Понятно теперь, что в сложившихся обстоятельствах Изольде не приходилось привередничать при выборе жениха, но, выходя замуж за Альберта, она и не думала менять свои привычки и характер.
Неизвестно, как долго она еще тянула бы со своим переездом, если бы не ее мать, не смотря на свои лета, особа весьма жантильная, в чьи расчеты не входило стеснявшее ее планы присутствие освободившейся от материнской опеки взрослой дочери, получившей после вступления в брак полную свободу вести галантный образ жизни.
Наконец наступил тот день, когда Изольда отправилась, как она выражалась, в добровольную ссылку.
К ее огорчению, ее прибытие в город, в котором ей предстояло истратить напрасно лучшие годы жизни, прошло почти незамеченным, если не считать нескромного внимания шумной ватаги праздно шатавшихся молодых шалопаев и нескольких брехливых бродячих собак, составлявших им компанию.
Во всяком случае, едва переступив порог своего нового дома, она сказалась разбитой несносно дорогой и провела весь день в постели, кусая от унижения углы шелковой подушки и клянясь отомстить Альберту за ожидающую ее скуку.
Вполне естественно, что в таком расположении духа она и думать не хотела о том, чтобы заняться домашними делами.
Альберту пришлось обратиться за помощью к Розмари, которая, горя желанием помочь разболевшейся невестке, с увлечением принялась за дело.
Однако, начатое из добрых побуждений, вскоре превратилось в обременительные обязанности. Все наивные мечты Розмари растаяли, как утренние облака.
Впрочем, Розмари не роптала, ведь все, что она делала – делалось ради любимого Альберта.
Гансу, жалевшему свою Розмари, тоже пришлось приниматься за дело, взяв на себя обязанности водоноса, истопника, метельщика и садовника.
Появление в семье Альберта детей сделало капризный характер Изольды и вовсе несносным.
При этом старший из сыновей – Вильгельм своими огненно рыжими кудрями удивительным образом походил на бравого брандмайора, а средний – Теодорикс явно обещал в будущем обзавестись лихо закрученными черными усами точь-в-точь как у капитана тринадцатого драгунского принца Евгения Савойского полка, стоявшего летним лагерем под городскими стенами во время бескровной «картофельной войны».
И только младшая – Маргарита была вылитая кукла Мириам, если бы не ее светло-русые локоны и простое ситцевое платьице с выглядывавшими из-под него кружевными панталонами.
Тут самое время вспомнить народную мудрость, которая не зря уверяет, что «с кем поведешься – от того и наберешься» и что «муж да жена – одна сатана».
В конце концов Изольда добилась того, что некогда нежно лелеемый и любящий сын стал стесняться и сторониться своей матери, не пытаясь даже скрыть досаду при робких попытках Розмари проявить к нему материнскую нежность.
А что же наш Ганс и его ремесло мастера-кукольника?
И тут не обошлось без последствий энергичной деятельности Альберта.
Первое, что тот сделал, едва заняв свой инспекторский кабинет, – заказал граверу две печати со следующими оттисками: «LÖSEN» (Разрешить) и «VERBIETEN» (Запретить).
Вооружившись оными, Алберт затребовал уставы городских цеховых обществ и, получив, запер их у себя в schrank’е, устроенный позади его кабинета.
Спустя какое-то время, обеспокоенные цеховые магистры, сделали попытку вернуть свои старозаветные грамоты, но столкнулись с неожиданным упорством, приведшим их в паническое замешательство.
Посовещавшись, многомудрые, но малодушные мужи решили кончить дело миром и, собрав изрядную сумму, предложили ее находчивому Альберту в качестве почетного выкупа.
Альберт доброжелательно принял их предложение и в назначенные день и час вернул через своего секретаря арестованные документы.
Обрадованные магистры, вернувшись в свои капитулы, с благоговением раскрыли манускрипты и…..застыли в ужасе, узрев на древних листах свежий оттиск с категорической резолюцией «VERBIETEN».
Едва ли они слышали об идеях знаменитого шотландца Адама Смита, сочинившего эпитафию мелкотоварному производству, но, будучи людьми законопослушными и добропорядочными, сочли за лучшее подчиниться.
Теперь каждый мастер должен был получить у Альберта патент, украшенный благожелательным распоряжением «LÖSEN».
Естественно, каждый патент стоил денег.
9
Надо ли объяснять, что такой поворот событий сказался на судьбе мастера Ганса самым непосредственным и горьким образом.
Когда его Розмари, сраженная бессердечием любимого сына, слегла в жестокой горячке, Ганс, оставшись без поддержки цехового братства, рассыпавшегося в прах от наложенного Альбертом запрета, был вынужден для ее спасения вначале распродать весь запас материалов, а затем – и инструмент, без которого терял всякую надежду на поправку своих дел.
Но все старания Ганса были напрасны: светильник Розмари угас накануне Троициного дня, день в день, ровно четверть века спустя памятной встречи, соединившей их сердца и судьбы.
Перед тем, как положить Розмари в гроб, Ганс переправился на лодке на противоположный берег ручья и нарвал охапку цветущего белого и розового жасмина.
Когда цветы были уложены в гроб, не закрытое саваном похудевшее и словно помолодевшее лицо Розмари от этого стало похожим на лицо уснувшей в саду девушки.
Присутствовавший при этом пастор, пораженный увиденным, поспешил заявить Гансу, что это есть знак особой милости Божьей, отворяющей перед честной и кроткой христианкой Врата Рая.
Бедняга Ганс, чье сердце разрывала предстоящая вечная разлука, ничего не ответил на это, заставив пастора заподозрить его в черствости и маловерии.
Вернувшись с кладбища, Ганс, как во сне, некоторое время стоял перед дверью своего опустевшего жилища, словно не решаясь войти в него.
Внезапно что-то больно укололо его в щеку, а потом – еще раз, очнувшись от тяжелых дум, Ганс оглянулся по сторонам и увидел невдалеке Вильгельма и Теодорекса, целившихся в него из игрушечных мушкетонов, стрелявших сушеным горохом.
Гнев сверкнул в глазах Ганса и он сделал шаг в сторону злых шалунов, заставив их убежать и спрятаться за штабелем деревянных чурбаков, оставшихся не расколотыми с минулой зимы.
Но гнев Ганса также мгновенно погас, как только он увидел маленькую Маргариту, игравшую возле штабеля в куклы.
Ганс тихо, чтобы не напугать девочку, подошел поближе и к своему удивлению обнаружил, что куклы, с которыми самозабвенно возилась не избалованная родительским вниманием девочка, были самого низкого сорта, продававшиеся бродячими торговцами.
Фейерверк нежности, жалости и обиды вспыхнул в груди мастера Ганса, и он решительным шагом направился, почти побежал в дом.
Каково было изумление и восхищение маленькой Маргариты, когда неожиданно у себя за спиной она услыхала тоненькой голосок «Здравствуй, миленькая Маргарита. Меня зовут Мириам. Хочешь, я стану твоей сестричкой?»
Кто бы смог отказаться от такого предложения?!
Маргарита с разрумянившимся от восторга лицом прижала к груди чудесную куклу, глядя сияющими голубыми глазами на совсем нестрашного, не смотра на строгие глаза, старика.
Улыбнувшись, Ганс погладил малышку по мягким, как пух, волосам и с чувством завершенного очень важного дела неторопливо отправился в свое жилище.
Он провозился там совсем недолго и, снова появившись во дворе, направился к ручью Штадтбах. Там он сел под раскидистой ивой и предался размышлениям, которые, очевидно, для него имели большое значение, ибо все движения и звуки окружавшего мира скользили мимо его отрешенного сознания, как тихие воды ручья Штадтбах.
Иначе он услышал бы, как закричала и безутешно расплакалась бедненькая Маргарита, когда Вильгельм и Теодорикс отобрали у нее чудесную куклу, которую усадили в щель между чурбаками, заявив, что теперь это султан Селим, и, не смотря на слезы и мольбы сестры, принялись обстреливать Мириам-Селима горохом, но, войдя в азарт сражения, поддержали атаку своих бравых егерей и гренадеров залпами подоспевшей на помощь артиллерии, стрелявшей, за неимением свинцовой шрапнели, камнями и гравием.
Результат решительного натиска не замедлил привести к полной и безоговорочной капитуляции противника, которая была неизбежна, после того, как камень, пущенный меткой рукой Теодорикса, попав в Мириам-Селима, сбил тюрбан и отколол кусок фарфоровой головы.
Правда, отпраздновать победу с проведением торжественного парада и награждением отличившихся Вильгельм и Теодорикс не успели, так как на крики победителей, плач и стоны мирных обывателей во двор вышла рассерженная Изольда, обещая дать расшумевшимся детям хорошую взбучку.
Как видно, ее слова не расходились с делами, ибо все трое участников только что бушевавшей драмы поплелись в дом, покорно отдавая себя в руки дочери помощника последнего королевского палача.
10
А что же Ганс?
Он все сидел на берегу ручья. Возможно, чего-то ожидая?
Уже Альберт успел вернуться из своего Thronsaal в замке Монетного двора, где в честолюбивых грезах видел себя чуть ли не ровней королю европейских банкиров Ротшильду, и поспешно шмыгнул в двери, смущенный сочувствием простых людей, населявших улицу Розенгессхен.
Солнце скатилось за щетинистый гребень Швабских гор, оставив после себя розовую полосу, которая, остывая, темнела, наливаясь густой синевой.
Яркие звезды мерцали в вышине от неощутимого у поверхности земли ветра и дрожали, отражаясь в тихих водах ручья Штадтбах.
С густым гулом штуцерной пули в густеющих сумерках залетали майские жуки, и соловьи принялись пробовать свои голоса, готовясь к ночному состязанию.
А наш Ганс все сидел на берегу, как будто ему была назначена встреча.
Но вот неведомо откуда прилетела струйка теплого ветерка, и сквозь шелест разбуженной листвы тихий голос шепнул ему в самое ухо «Ганс» и невидимая рука коснулась его плеч.
Но быть может это гибкая ветка, качнувшись, дотянулась до него?
Как знать.
Но, похоже, что Ганс только и ждал этого сигнала.
Он поднялся на ноги, минуту постоял, вглядываясь и вслушиваясь в окружавшую его теплую и душистую темноту летней ночи и не задерживаясь более, прямиком направился в дом.
Войдя в жилище, он не стал закрывать за собой дверь и разжигать огонь в лампе и очаге, наоборот, открыл настежь единственное окно. В серебристом свете яркого месяца он разделся донага, открыл сундук и достал из него саван. Завернувшись в него, он взобрался на стол, на котором несколько часов назад стоял гроб с телом Розмари.
Едва он устроился на жестких досках, сложив руки на груди и закрыв глаза, из своего домика выскочила бойкая кукушка и принялась отсчитывать часы, а может быть – обещать годы жизни?
Ни то, ни другое для Ганса уже не имело значения.
Однако, ему пришлось, подобно Лазарю, подняться со своего одра и запереть неугомонную птицу.
Лунный свет передвигал по полу и стенам тени от предметов, а то, чего так ждал Ганс, все не наступало. В какой-то момент он даже задремал и проснулся от собственного храпа, но после этого уже не смыкал глаз.
И вот когда уже начали тускнеть голубые тени, в рассеянной полосе лунного света он увидел прозрачный образ Розмари, державшую за руку маленького Альберта. Оба, смеясь, парили в зыбком воздухе вполоборота к Гансу, и смех их был подобен нежному звону серебряных бубенчиков.
Тут Ганс перестал чувствовать жесткие доски стола и собственное тело, и к своему удивлению обнаружил, что может не дышать. Впрочем, это совсем его не испугало, ведь бубенчики звенели так нежно и весело.
Только сердце еще продолжало жить в бесплотной пустоте. Но, кажется, и оно осознало нелепость своей привычки и поспешило затихнуть.
Ганс сам не заметил, как очутился рядом с милой Розмари и обнял ее за плечи, а она крепко обхватила его за талию и положила голову ему на плечо. И они втроем поплыли по голубому лучу под радостный звон бубенчиков.
Прошло немного времени, и первый солнечный луч упал на спящие листья, цветы и траву, отражаясь алмазными брызгами в капельках выступившей росы.
Птицы пропели побудку новому дню.
Промолчала одна кукушка, запертая в своем домике.
Ночная темнота перед тем, как убраться восвояси, протянулась длинными тенями от деревьев, зданий, хозяйственных построек, изгородей, коновязей и огромной дубовой бочки на колесах, в которую уже начал впрягать лошадей общинный водовоз Вили Компилиус, тень от которого была так длинна, что обладай Вилли в действительности таким ростом, то мог бы запросто перешагнуть с одного берега ручья Штадтбах на другой, не замочив ног.
В этот ранний час через Ульмские ворота в Гюнцбург бодрой походкой вошли два молодых человека, с дорожными мешками за плечами и крепкими палками в руках. Они прямиком направились на улицу Розенгессхен, где свернули к дому, стоящему на заросшем ивами берегу полноводного ручья Штадтбах.
Это были Питер и Пауль, возвратившиеся из дальних странствий. Они стали отменными мастерами и многое повидали на своем долгом пути, о чем спешили поведать своему строгому и доброму наставнику и его сердечной хозяйке.
Обновленный и нарядный фасад дома изрядно их удивил, и они даже многозначительно присвистнули, радуясь удачному ходу дел у мастера Ганса.
Перед тем, как постучать в двери гостеприимного дома, друзья решили привести в порядок свою одежду и смыть с себя дорожную пыль в чистых водах ручья Штадтбах.
Обойдя дом кругом, они обнаружили открытую дверь мастерской и, не сговариваясь, очутились на ее пороге, ожидая увидеть принявшегося с утра пораньше за работу мастера Ганса.
То, что они успели разглядеть в до неузнаваемости переменившимся помещении мастерской, в один миг перенесло их к парадным дверям дома, в которые они отчаянно забарабанили наперебой.





