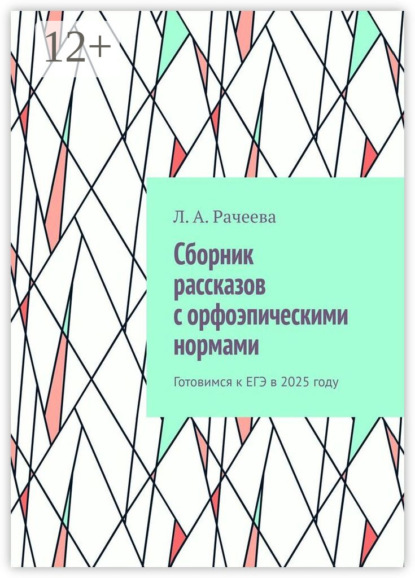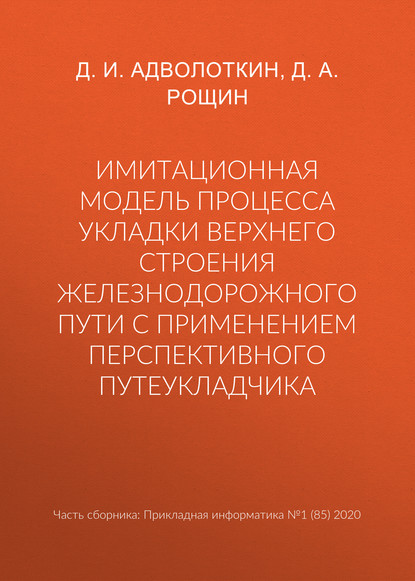Глина дней

- -
- 100%
- +
Второй согласился. Молча. Вся его экспериментаторская прыть угасла, сменившись глубочайшим, космическим смирением.
– Да, – прошелестел он. – Начинаем сначала.
Их воли вновь слились. Но на этот раз не с азартом первооткрывателей, а с тяжелой, скорбной решимостью сапёров, обезвреживающих собственноручно установленную бомбу. Пространство-время задрожало, повинуясь приказу. Картина мира, застывшая в своем безвременном, вегетативном покое, начала медленно, с чудовищным скрежетом обратных метафизических связей, отматываться назад.
Свеча, едва не затушенная, должна была вновь загореться. Пусть её пламя колеблется от ужаса, пусть оно обжигает и слепит – но это будет пламя. А не холодный пепел.
И где-то в бесконечности, на маленькой планете, затерянной в спиральном рукаве галактики, последняя одинокая слеза на щеке старика исчезла, так и не успев упасть. Ещё одно мгновение – и он снова её почувствует. И ужаснётся. И именно в этот миг возьмётся за кисть, чтобы попытаться передать тот немыслимый ужас и красоту мира, в котором ему выпало жить, любить и бояться.
Эксперимент был завершён. Пришла пора возвращаться домой.
Последний рейс
Я помню свой первый день. Тот день, когда впервые выбрался за ворота сборочного цеха. Я был богом! Мной восхищались все, от мала до велика, от инженеров до простых рабочих. Резкий запах свежей краски и смазки. Стальные бока сверкали под кинопрожекторами, салон пах не этой затхлостью, а лаком и надеждой. Я был первым на линии! Молодые вагоновожатые дрались за право вести меня, гладили мои панели, как крупы жеребца. А как я шел! Я резал улицы своим четким, уверенным силуэтом, и весь город расступался перед моим ликующим, требовательным звонком. Мой голос! Мой голос был не хриплым всхлипом – это был медный гром, труба архангела, перед которым расступались все! Я видел в глазах людей не раздражение – восхищение. Дети тыкали в меня пальцами, кричали: «Смотри, мама, новенький!» Я был будущим, сбывшейся мечтой, стальным воплощением победы над расстоянием и тишиной. Я был полон сил, и каждая прожитая миля лишь оттачивала нрав, делала мой голос – песней стали и электричества – еще громче, еще властнее.
Я катал их всех! Не эти серые тени, а живых, горящих, яростных! Я возил с завода рабочих – уставших, пропахших машинным маслом, но с огнем в глазах. Они пели! Ах, как они пели… Стекла мои дрожали, поручни гудели, подпевая им. Я вез студентов на их первый урок – их молодой, дурацкий смех заполнял меня до отказа, их чемоданы, туго набитые мечтами, колотились о мои стены в такт перестука колёс. Я катал влюбленных! Они целовались в моем темном углу, сердца их стучали как молоточки, а я чувствовал их сквозь всю свою броню. Я вез солдат домой – и они, эти железные мужчины, плакали, глядя на знакомые переулки, а их слезы были солеными и гордыми. Я возил матерей с новорожденными – и осторожно-осторожно притормаживал, чтобы не потревожить сон младенца. Я был их домом, их клубом, их исповедальней, их громоотводом. Война, мир, стройка, любовь, смерть – все это прошло через меня, как ток по моим проводам. Я не просто вагон. Я – живая хроника. Во мне застряли осколки всех этих криков, песен, споров, признаний.
Теперь мое тело – летопись, которую никто не будет читать. Краска обвисла струпьями, многослойно-разноцветными, как кожа старого слона, открывая проступившие ржавые подтеки и язвы. Каждая вмятина – история, а стальная плоть – карта всех сражений. Не войн, нет. Сражений с жизнью. Вот тут зацепил грузовик, не уступивший дороги. Здесь – след от булыжника, что бросил вслед отчаянно-пьяный подросток в глухой ночи. Мое тело было истерзано городской суетой. Стекла замутнели от бесчисленных взглядов: радостных, усталых, спешащих, потерянных. Они впитали в себя все. Я помню лица всех, кто ехал внутри меня. Помню тяжесть их тел, отчаяние на плечах, счастье в их смехе. Их дыхание навсегда осталось в моей обивке, пальцы отполировали поручни до блеска теплого дерева. Я был их ковчегом, их убежищем от дождя, их качающейся колыбелью в ночи.
А она… Вагоновожатая. Мы срослись. Ее ритм стал моим ритмом. Ее усталость – моей усталостью. Я чувствовал каждое движение ее руки, дергающей за шнур моего голоса. Я помню ее молодой, с пышной косой и смеющимися глазами, сперва боявшуюся моего громкого голоса. А потом… потом мы стали одним целым. Она знала мой нрав, как знает кучер нрав своей лошади. Чуть сбросить скорость перед тем ухабом, слегка придержать на спуске, чтоб не сильно тряхнуло. Ее нога на педали была продолжением моей воли. Мы переплелись душами, и встречая её по утрам, я радостно перемигивал поворотниками, нетерпеливо перебирая шестернями своего железного чрева. И взрослели, и старели мы вместе. Коса её поредела и побелела, смех сменился молчаливой сосредоточенностью. Мой лак облез, стекла помутнели и осип голос. Мы шли вместе к этому концу.
Да. Это был мой последний рейс. Финальный. Больше мне не придется шумно скользить по рельсам, огибая дома, взрезая перекрестки. Я не кричу проклятий. Выхожу на линию не как пенсионер на парад – выползаю как зверь, раненый в живот, что чует свой конец и хочет умереть на своей земле, а не в вонючем загоне. Мой номер – пятерка. Когда-то он горел красным огнем на лбу, теперь – стерся, замызган грязью, как клеймо на старом каторжнике. Я выхожу на линию с чувством горького удивления. Неужели все? Неужели этот путь, который я знаю каждым своим шарниром, каждым нервом электропроводки, больше не повторится? Я скриплю на поворотах, и этот скрип – не звук изношенного металла, а старческий стон, недоуменный вопрос, обращенный к ночному городу. За что? Я еще крепок. Моё моторное сердце всё еще бьется ровно и преданно. Но мир решил иначе.
И вот – она. Вошла. Не пассажир – призрак. Внесла с собой мороз и отчаяние. Села у окна и распалась. Без звука. Слезы её были тихими, как кровь из открытой раны. Они текли по побелевшим морозным щекам, и я чувствовал их соль на своей шкуре. Горе её било током в меня. Оно было жарче любого короткого замыкания. И я вез ее. Катил через спящий город, который уже забыл о нас. Мимо этих новых, стеклянных чудовищ, что подмигивали нам разноцветными рекламами. Мимо идиотских, замыленных автомобилей, что заполонили мои рельсы. Я вез ее, эту незнакомку с разбитым сердцем, и старался качаться помягче. Чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть смягчить ее падение в небытие. Это было все, что я мог. Мое сострадание заключалось в смягчении толчков на стыках.
И вагоновожатая, с тревогой вглядываясь через зеркало в эту запоздалую пассажирку, чувствуя мою дрожь коснулась шнура. Не как обычно дернула, прикоснулась. Прикоснулась ко мне. Даже не физически – душой. Изменила звук моего голоса. И тот самый звонок, что всю жизнь был моим яростным окриком, моим предупреждением миру, стал под ее пальцами стоном. Песней плача. Она говорила за нас обоих, тем единственным языком, что остался у нас – языком металла и тоски. Мы хоронили вместе – меня, ее отчаяние, старый мир, эту ночь. Каждый удар колокола был каплей, падающей в бездонный колодец памяти.
Так мы и ехали – сквозь время, сквозь боль, сквозь тишину – связанные моторным гулом, перестуком колес и этой общей тоской.
Конечная. Тормоза вздохнули в последний раз. Двери открылись с тихим шипением.
Женщина поднялась и вышла, не оборачиваясь. Она растворилась в ночи, не оставив после себя ни звука.
Депо. Вот он – мой дом ставший склепом. Я вползаю внутрь. Моя вечная спутница погасила в салоне свет, и тьма нахлынула сразу, густая, беспросветная. Неторопливой поступью, оглядывая каждую мою морщинку, каждую деталь, она вышла и захлопнула дверь. Звук был окончательным, гробовым ударом.
А соратница моя стояла, глядя, как темный силуэт отгоняют на запасной путь.
В последний раз, превозмогая законы физики я подмигнул ей рыжими поворотниками – будем жиииить!!!!
И затих.
А мои братья… они уже здесь.
Молчат.
У них вырваны сердца – моторы. Выколоты глаза – фары. Стоят в темноте и ждут своей участи. Завтра придут люди с ацетиленовыми горелками. Они не увидят в нас истории – лишь тонны металлолома. Органы наши никому не нужны. Нас не будут разбирать на память, или что б кому ни будь подлатать израненное тело. Нас будут резать. Будут давить. Отправят в печь, чтобы мы стали чем-то новым, гладким, бездушным. Чистым листом, на котором уже никто не напишет ни одной из наших историй.
Как эти новые…
Новые трамваи… я видел их. Они красивые. Тихие. В их пластиковых салонах пахнет химической свежестью. Их электронные мозги вычисляют маршрут до миллиметра. Они не чувствуют дороги. Они не знают пассажиров. Они не будут хранить в себе эхо тысяч вздохов и слез. Они – будущее. Стерильное, эффективное, одинокое. Они умрут, не прожив и половины моих лет, отправленные на свалку за моральным устареванием. Их смерть будет быстрой и безболезненной. Они не успеют ни к чему привязаться. Их не будет мучить ностальгия по стуку колес на стыках, которую знаешь наизусть. Они не поймут, что значит быть свидетелем.
А я понял. В свой последний рейс. Быть свидетелем – это не просто видеть. Это чувствовать боль незнакомой женщины как свою собственную. Это помнить каждый кирпич в стенах города, который тебя забыл. Это знать, что твое железное сердце, остановившись, унесет с собой в расплав кусочек души каждого, кто к нему прикасался.
Мир становится быстрее. Избавляется от всего, что может напомнить ему о бренности, о шероховатостях, о тихой, общей печали. Он предпочитает яркий, привычный комфорт – старому, громкому, но живому сердцу. И когда последний из нас, хранителей времени, будет переплавлен, наступит новая эра. Совершенная, удобная и бесконечно, невыразимо одинокая. Потому что плеча, на котором можно всплакнуть уже не будет, и даже стальной поручень не откликнется тихим сочувствием и пониманием. И звонить будет некому.
Исчезал не просто трамвай. Исчезала целая вселенная. Вселенная тихого, молчаливого сострадания, где можно было разделить свое горе с незнакомцем, не сказав ему ни слова. Где колокол мог стать гимном твоей печали, а чужое отражение в стекле – единственным понимающим тебя существом на свете.
Соль Земли
Он умирал не в болезнях и не в борьбе со смертью, что ревет и мечется в лихорадке. Он угасал, словно фитиль, оставленный без масла, медленно, почти нехотя, отпуская в небытие одну за другой нити, связывавшими его с миром звуков, запахов, прикосновений. Этот мир, столь знакомый и бесконечно дорогой в своей простоте, теперь таял, как льдинка на горячей ладони, ускользая, теряя чёткие формы.
Он просто жил. Трудился до седьмого пота, хоронил родителей, друзей, растил детей, провожал их во взрослую жизнь, снова оставаясь в тишине, что с годами становилась лишь глубже и звонче. Он не пахарь и не мыслитель по призванию. Он был человеком, который смотрел вокруг и видел не просто предметы, а их суть. Видел, как год за годом наливаются тяжёлые колосья на поле, и это было чудо. Видел, как старый пёс, прожив верно свой век, укладывается у печки в последний раз, и в глазах его стоит не страх, а спокойное, кроткое прощание – и это было чудо. Видел, как жена, давно поседевшая, с утра зажигает в печи огонь, и первый луч солнца падает на её морщинистую руку – и это тоже было величайшим, необъяснимым таинством.
Он не искал смысла в книгах. Он находил его в каждом дне, в каждом вздохе, в каждом камне, обкатанном рекой до идеальной, вечной гладкости. Философия его была молчаливой, как рост травы. Он думал, лёжа ночью на постели, глядя в тёмный потолок, слушая, как за стеной посапывают внуки. Думал о том, что всё это – и горе, и радость, и труд, и короткий отдых – не может быть просто так. Не может уйти в никуда, рассыпаться прахом. Должна быть какая-то точка, где всё сходится. Где все дороги, все судьбы, все слёзы и все улыбки встречаются в одной великой, ослепительной вспышке понимания.
И вот теперь, чувствуя, как расстается с земной оболочкой, он не испытывал страха. В нём, сквозь нарастающую физическую слабость, жила упрямая, тихая надежда. Надежда на то, что сейчас, за последним порогом, он не умрёт, а наконец поймёт. Поймёт связь между криком новорождённого и шепотом умирающего, между первым весенним листком и последним осенним яблоком, упавшим в траву. Он верил всем своим естеством, что смерть – это не конец пути, а его кульминация. Последний шаг в тёмную комнату, где наконец-то зажгут свет, и он увидит всё сразу – и начало, и конец, и причину, и цель. Последним чувством, обрывающим земные связи, была не мольба, а огромная, иссушающая жажда. Жажда не постижения, а узнавания. Слияния с той простой и непостижимой правдой, что он чувствовал кожей весь свой нехитрый век.
Последним отзвучал в утробе стук собственного сердца – глухой, удаляющийся раскат, будто камень падает в глубокий, бездонный колодец, и эхо этого падения тонет в вечной, непроглядной сырости, уступая место непривычной, оглушительной тишине, полной обетования.
И наступила тьма…
Тьма пришла. Не та, что слепа и пуста, но та, что густа, тяжка и плодородна, как черная икра земли. Он не существовал и не не-существовал. Он прел в тигле вечного, перемешавшись с прахом веков, с солью древних морей, с крупинкой гранита, растёртой в пыль. Его «я», когда-то такое острое и жалобное, растеклось, как чернильное пятно на сырой бумаге, теряя границы, растворяя боль, страх, желания в едином, безличном потоке становления. Он был всем и ничем. Пылинкой в космическом ветре и самим ветром.
Потом – толчок. Не извне, а из самой сердцевины этого распылённого бытия. Повиновение некому беззвучному, древнему, как сама материя, приказу. Повиновение, в котором была вся невероятная тяжесть и вся немыслимая радость мироздания. Сгущение. Стремление. Тяга вниз, туда, где влажно, прохладно и темно. Тяга, сравнимая разве что с той первой, слепой алчностью жизни, что заставляет семя лопнуть под давлением ростка, рвущегося изнутри наружу.
И он потянулся. Не руками – у него не было рук. Не телом – у него не было тела. Он потянулся сутью своей, всей своей вновь обретённой, неусмиримой волей к жизни – вниз. В сырую, непроглядную, вязкую прохладу. Каждая частица, каждая крупица того, что когда-то было мыслью, а ныне стало плотью земли, устремлялась вглубь, пронизывая пласты глины, камешки, сплетения корней других, таких же, как он, искавших опоры. Это было похоже на рвущийся из груди стон, обращённый в корень, на первородный голод, на жажду уцепиться, впиться, присосаться к великой, тёмной утробе матери-земли.
Он укоренялся. И было сие укоренение не просто процессом, но мукой и блаженством, распятием и воскресением, свершающимся в едином миге, в темном лоне земли. Вся суть его, вся плоть и дух превратились в одно сплошное, обнажённое осязание, в нерв, обречённый чувствовать всё. Тончайшие, невидимые щупальца натыкались на камень – и острая, ясная, живая боль пронзала всё естество, заставляя сжиматься в комок яростного, безграничного терпения. Но едва находили они жилу влаги – прохлада, сладкая, как первый глоток после долгой жажды, разливалась по сосудам, наполняя силой, заставляя рваться вперёд с новой, неистовой энергией.
Окружающая тьма не была пустотой. Она была плотной, густой, насыщенной субстанцией, которую читало сознание, как зверь читает книгу запахов окружающего леса. Был вкус железа и влажной глины на несуществующей коже. Давление тысячепудовой толщи грунта на несуществующую спину – гнетущее и успокаивающее одновременно. Холодный поцелуй подземного ручья на отсутствующих губах, дарующий обширные, непознанные воды, спящие глубоко в каменных пещерах.
Прошли века, или мгновения – время сжалось в плотный ком, перестало течь, стало свойством самой почвы, её плотностью, её детородным возрастом. Он был и мигом, и вечностью. И вот из этой вечности, из тончайшей сердцевины бытия, родился новый порыв – уже не вниз, а вверх. Навстречу чему-то, что не помнилось, но манило теплом и светом, звало с немыслимой, тоскливой силой, как зов забытой родины.
И начался рост.
Это было не просто усилие. Это была эпическая битва, подобная пробуждению титана в тесной могиле, медленно, неотвратимо расправляющего каменные плечи. Каждый миллиметр пути вверх давался ценой невероятного напряжения воли, что пульсировала в каждой клетке. Пласты спрессованной, как бетон, глины, растущее сопротивление мира, желавшего сохранить в своей утробе. Он не шёл – он буравил тьму. Не полз – вколачивал себя клином в толщу. Росток, тупой и нежный, искал малейшую щель, слабину в броне планеты, чтобы втиснуться в неё, расширить своей пульсирующей жизненной силой, превратить в прах непокорный камень упорством бесконечно малого, но бесконечно настойчивого давления.
Чувствовалось, как лопаются и отмирают первые, самые хрупкие клетки-первопроходцы, натыкаясь на непреодолимую скалу. Их гибель отзывалась в сердцевине тупой, глубокой внутренней мукой, словно отламывали палец. Но тут же, следом, нарастала новая плоть, обтекала препятствие, искала другой путь, и снова – вперёд, и снова – вверх. Рос он, клетка за клеткой, наполняясь соками земли, становясь проводником её тайных сил. В этой титанической борьбе рождалась будущая крепость, его кольца – летопись сопротивления. Каждый слой плоти, что ляжет потом кругом, будет хранить память о преодоленном камне, о проглоченной и переваренной тверди.
И когда, наконец, верхушка, сжатая в тугой, липкий, смолистый кулачок почки, разорвала последний, тончайший слой чернозема, поросший мхом, и уперлась во что-то податливое, прохладное и невероятно просторное, сознание охватил животный, первобытный ужас.
Это был воздух. И первым дыханием стал не крик, а тихий, непрерывный, внутренний стон, рождённый от прикосновения к бесконечности. Он ослеп. Не тьмой, а светом. Миллионы игл, острых, холодных и горячих одновременно, вонзились в нежную, едва пробившуюся зелень, пронзили её насквозь. Это был свет. Он лился с небес, обжигал, был невыносимо ярок, безжалостен и прекрасен. Сила эта заставляла сжиматься, уползать обратно в спасительную, тёмную утробу, но та же мощь, что вытолкнула на поверхность, не позволяла отступить. Предстояло принять этот свет, впустить в себя, сделать частью новой сути. Это был акт насилия и акт любви одновременно. Свет резал, но и лепил, придавая форму, насыщая цветом, вдыхая в него ту самую энергию, что отличает живое от мёртвого, растущее от спящего.
И сдался поток. Не пассивно, а всецело, окончательно, распахнув навстречу неистовому водопаду дня первые, слепые, трепетные, бледно-зелёные ладони-листья. И хлынул в них, в эти живые чаши-приёмники, свет. То было второе рождение – куда более шокирующее, более потрясающее основы, нежели первое, подземное. Рождалось не насыщение – рождалось озарение. Поток нес в себе не просто фотоны, но саму информацию, чистый, всеобъемлющий разум солнца, что входил в каждую клетку, наполняя её до краёв, заставляя петь, вибрировать, трепетать от переизбытка знания.
Виделось не глазами, а всей поверхностью распахнутого навстречу миру тела. Виделась бескрайняя лазурь небес, проплывающие облачные горы, чувствовался бег звёзд по ночному куполу. Пился свет, и свет этот наполнял такой ясностью, таким пониманием устройства вселенной, перед коим вся прошлая, человеческая мудрость казалась жалким лепетом сумасшедшего.
Стояло оно на своих новых, могучих, деревянных ногах-столпах, уходящих глубоко в земную утробу паутиной живых канатов. Стояло и впитывало мир. Не так, как прежде – выборочно, отрывочно. А целиком, непрерывно, как единый, сложный, дышащий организм.
Слышалось ему, как по жилам-сосудам поднимается вверх, к небу, густой, смолистый, прозрачный сок – живая кровь земли, неспешная и мудрая, разносящая по всему телу песню глубины, тяжести, векового терпения. Чувствовалась лёгкая дрожь, пробегающая по стволу под грубой корой-кожей – то ветер, невидимый, но осязаемый, ласкал его, и была эта ласка полна невыразимой нежности и неизбывной грусти, ибо ветер был свободен, а он – прикован к месту навеки. Вкушался солнечный свет, впитываемый всей поверхностью листьев, и был этот свет не просто пищей, но и музыкой, и памятью солнца, и рассказом о далёких мирах, пропущенным через зелёный хлорофилловый кристалл.
Сознание, когда-то замкнутое в тесной черепной коробке, раскинулось на десятки метров в глубину, и ввысь, и вширь. Оно было не в голове. Оно было везде – в каждом листе, в каждой ветви, в каждом корне. Мысль не рождалась и не умирала – она текла, медленная, как сок, мощная, неопровержимая, как смена времён года. Больше не думалось – зналось. Знание приходило не из книг или опыта, оно прорастало изнутри, из сути вещей, частью коей отныне пребывало всё сущее.
Ощущался пульс планеты. Где-то далеко, на невообразимой глубине, спал в своём огненном сердце гранит, и его тяжёлые, вековые сны отзывались в корнях лёгким, едва уловимым гулом. Чувствовалось, как к стволу прижимается уставший путник, и по древесной плоти бежала волна чужой, мелкой, суетной человеческой усталости, смешанной с запахом пота и дорожной пыли, – и была эта усталость и чужой, и знакомой до слёз. Ощущалось, как в ветвях свила гнездо птица, и трепет новой жизни, биение крохотных сердец под тонкой скорлупой становились его трепетом, его болью, его надеждой.
Но были и иные встречи. Жестокие и невежественные.
Как-то раз налетела ватага мальчишек с гиканьем и криками. Их визгливые, пронзительные голоса резали воздух, остроконечными стеклами. Один из них, самый крупный, с ожесточением ударил ногой по стволу. Дерево содрогнулось – не от боли (удар был слишком слаб, чтобы причинить вред мощному исполину), а от самой сути этого действия – бессмысленной агрессии, желавшей причинить вред просто так, из скуки и избытка силы. Потом тот же мальчишка вцепился в нижнюю, упругую ветвь и, повиснув на ней, стал раскачиваться, пытаясь с хрустом отломить её. И вот тогда пришла боль. Острая, раздирающая, невыносимая. Боль не физическая – та была бы локализована, – но мука осквернения. Боль от насилия над святостью жизни, над священным актом роста, который он собой воплощал. Чувствовалось, как трещат и рвутся волокна, в которые было вложено столько времени, столько сил, столько воли. Чувствовался глупый восторг мальчишки, не понимающего, что ломается не просто палка, а целый мир, медленно создававшийся десятилетиями. И рождалось внутри новое, страшное чувство – не ненависти (оно было слишком мелко и мимолётно), а бездонной, вселенской жалости. Жалости к этим слепым, суетным тварям, что рвут и ломают, не чувствуя боли мира, частью коего являются сами. Были они подобны слепым котятам, тыкающимся мордочкой в мать-кошку и не ведающим, что причиняют ей боль. И была эта жалость горше любой обиды.
Но были и иные мгновения, выплавленные из самого света и тишины. Когда под его сенью, в знойный полдень, останавливалась молодая мать с ребёнком. Малыш, едва научившийся ходить, качаясь, подходил к исполинскому стволу и, ахая, прикасался к древесной коре своей крохотной, нежной ладошкой. В такие мгновения по древесной плоти, от коры до сердцевины, пробегала волна чистого, незамутнённого, безоглядного удивления, восторга перед этой незнакомой, грубой фактурой. И замирало всё древесное существо, стараясь замедлить бег соков, боясь спугнуть это хрупкое, бьющееся, как птичье сердечко, чувство. Слышало, как мать тихо напевает колыбельную, и звуковая волна, лёгкая и ласковая, ударяясь о листву, заставляла её чуть заметно вздрагивать, превращая песню в едва слышный, живой шелест. Это была музыка, которую можно было слушать вечно.
А однажды ночью, когда луна лила на землю прохладное, ртутное молоко, и тени от ветвей ложились на траву чёткими, чёрными кружевами, послышалось новое движение. Не ветра, не зверя, не птицы. Человек. Шёл он медленно, тяжело. Шаги отдавались в земле глухими, скорбными ударами, что эхом отзывались в самых глубоких, потаённых корнях. Человек подошёл, прислонился спиной к могучему стволу, соскользнул на землю, обхватил колени руками. И тогда по древесине, от коры к самому сердцу, побежала волна жгучей, солёной, невыносимой человеческой тоски.
То была та самая тоска, что жила в нём когда-то, в прошлой, далёкой, практически забытой жизни. Тоска по утраченному, по несбывшемуся, по любви, по дому, по пониманию. Тоска, от которой сводит скулы и горят глаза. Текла она из человека в дерево, как яд, как раскалённая сталь.
И приняло её дерево. Не как чужую боль, а как свою. Ибо это и была его боль, боль прошлого «я». Но теперь, пропущенная через призму нового, древесного сознания, преломилась она иначе. Поняло её дерево. Не умом, а всей своей сутью, ощутив её ничтожность и величие одновременно. Чувствовалось, что эта тоска – всего лишь мгновение, всплеск на бескрайнем океане бытия, капля в великом круговороте воды, углерода, страдания и любви. Оно приняло её в себя, как принимает дождь сухая земля. Впитало, пропустило через свои фильтры, очистило от личного, частного, превратило в нечто большее – в сострадание, в знание, в саму плоть ствола.