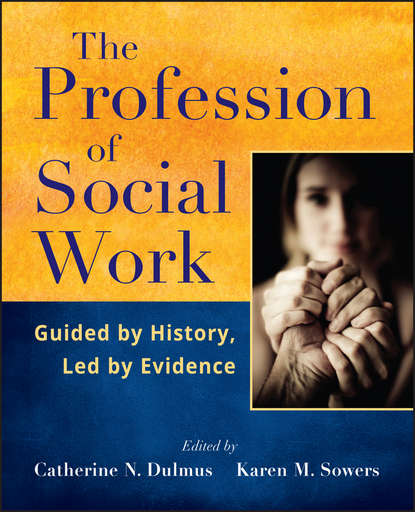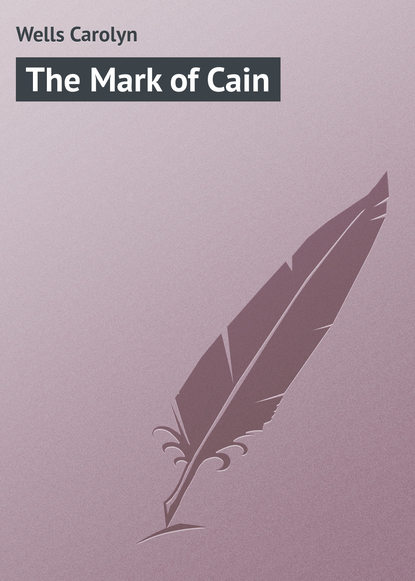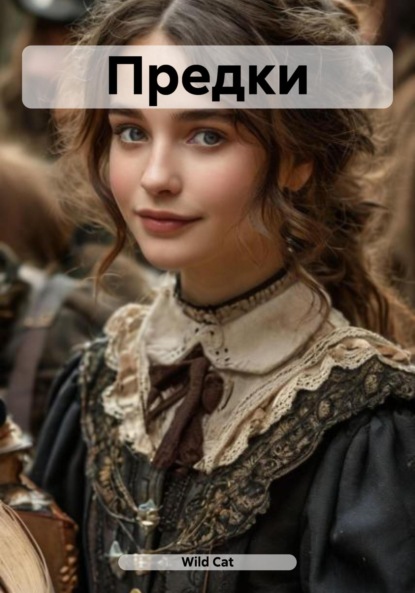Глина дней

- -
- 100%
- +
Запах масла и металла, этот привычный, плотный, почти осязаемый мир, внезапно рассеялся, уступив место Ничему. Абсолютной, стерильной, беззвучной пустоте, что обрушилась на них всей своей неумолимой, неистовой тяжестью. Исчезла не только мастерская с её пылью и тенями – растворилось, перестало существовать само пространство, сама ткань мироздания. Они застыли, повисли в белесом, безвоздушном, лишённом координат Межвременье, где не было ни верха, ни низа, ни прошлого, ни грядущего. И в самом сердце этого Ничто, пульсируя живым, нестерпимо ярким сердцем, пребывала Она.
Реакция.
Но уже не та, что являлась учёному в искажённом, рваном зеркале приборов. Не сухие графики, не слепящие вспышки, не столбцы мёртвых данных. Здесь она предстала в своей чистой, оголённой Сути. Совершенной, огненной, немыслимо сложной и в то же время – до душераздирающей простоты – ясной геометрией превращения. То был величественный, непостижимый танец элементарных частиц, космическая симфония, высеченная из самого первозданного пламени бытия. Единое Мгновение, растянутое и превозмогшее само себя, позволившее узреть каждую пикосекунду этого вечного действа, каждый изгиб, каждую рвущуюся и вновь рождающуюся связь – всю сокровенную механику мироздания.
Учёный парил рядом, и сознание, наконец-то освобождённое от тюремных оков медлительной плоти и грубых, слепых инструментов, всецело погрузилось в созерцание этого чуда. Он не записывал – он впитывал в себя, жадно, всей душой, всем существом. Не анализировал – а, затаив дыхание, постигал. Разум, распахнутый настежь, как губка, вбирал в себя не данные, не цифры, но саму сокровенную Истину процесса, его внутреннюю, божественную логику, его чарующую, вселенскую музыку, что невозможно услышать в ослепляющей молнии реального мгновения.
Арвид, безмолвный и невидимый страж, лишь наблюдал. Он видел, как Черты учёного, застывшие в вечности Безвременья, медленно, но неумолимо теряли маску исступлённой, иссечённой мукой агонии. На смену ей приходило иное выражение – ошеломлённое, безмерное, благоговейное изумление дикаря, впервые узревшего море или звёзды. Выражение чистого, незамутнённого познания, достигшего своей наивысшей, экстатической точки. Он, простой смертный, прикоснулся к самому сердцу реальности, к её раскалённому, сокрытому от смертных ядру.
И минуты в этом вневременьи растягивались в часы, часы – в годы, а годы – в целые жизни, отмеренные исключительно для чистого, ничем не осквернённого, абсолютного знания.
Щелчок. Резкий, сухой.
Мир обрушился с оглушительным, раздирающим сознание рёвом. Звуки, запахи, давящая тяжесть материи – всё это ворвалось, как морской вал в трюм тонущего корабля. Глухой гомон реальности, от которой он отвык, ударил по перепонкам, заставил содрогнуться.
Арвид стоял посреди мастерской. Не шевелился, не чувствуя ни усталости, ни облегчения – лишь привычную, леденящую, вымороженную до дна пустоту, что всегда ждала его здесь, как верная, неотступная тень. Учёного не было. Дверь была закрыта, будто ничего и не происходило, словно тот вихрь отчаяния и прозрения был миражом, порождением беззвучия.
Он сделал несколько механических шагов, и взор, тяжёлый и отсутствующий, упал на верстак, на сложный, разобранный механизм карманных часов. И тогда он попытался вспомнить. Не факт, не сухую последовательность действий – он попытался вызвать из небытия чувство. Тот самый восторг, пьянящий и самозабвенный, от первого собственного, настоящего изобретения. Тот миг, когда десятки шестерёнок, валов и пружин впервые сложились в единый, живой, дышащий механизм, когда его творение обрело вдруг голос – чистый, серебряный, ни на что не похожий перезвон механической птицы. Он помнил, что это было. Помнил схему, повороты ключа, вес инструментов в руке. Но само чувство – эту упоительную радость созидания, эту гордость, детское, священное изумление перед чудом собственного умения – всё это выскоблило, выжгло целиком. Осталась лишь сухая, безжизненная схема в памяти, голый костяк события, лишённый плоти восторга, лишённый трепета творца. Он потерял не память – он потерял нутро, самую душу, что когда-то заставляла его руки творить.
Как автомат, Арвид подошёл к полке, взял в руки ту самую, теперь уже беззвучную птицу. Завёл её ключом. Механизм щёлкнул, заработал с сухим, бездушным пощёлкиванием. Птица повернула голову, раскрыла клюв в давно отрепетированном немом крике… но из её горла не донеслось ни трели, ни мелодии. Лишь сухое, безжизненное шипение трущихся шестерёнок, скрежет, похожий на предсмертный хрип. Она всегда пела. Теперь – нет. Она замолкла насовсем точно так же, как замолкло в нём самом, в самых его потаённых глубинах, живое эхо былой радости.
И тогда взгляд, тяжкий от безысходности, медленно пополз к окну.
Она стояла там. В безмолвных, густеющих сумерках. Сжимая в руках идеальный, геометрически безупречный кристалл. Абсолютно прозрачный, лишённый малейшего изъяна, но совершенно мёртвый. В нём не было внутреннего огня, ни жизни, ни игры света – лишь неподвижная, стерильная правильность.
И в её бездонном взгляде, обращённом на него, сквозило одно – глубочайшее, вселенское, бездонное понимание. Понимание неумолимой цены. Понимание того, что он только что отдал, чем заплатил. Не память о мелодии – саму божественную способность её создавать, ту самую искру, что превращает ремесленника в творца. Он подарил другому постижение гармонии вселенной, заплатив за это собственной, личной, человеческой гармонией, музыкой души.
Тень медленно, бесшумно повернулась и ушла, растворившись в наступающей ночи, поглощённая тьмой, оставив его наедине с немым механизмом в омертвевших пальцах и с оглушительной, обволакивающей глушью творческой смерти внутри.
Пауза 5 – для Судьи
Неумолимая, белоснежная зима вцепилась в городскую плоть ледяными когтями, и казалось, сама атмосфера застыла в предсмертной агонии. За стёклами «Хроноса» бушевала метель, её безумный, заунывный хор запевал вечную, монотонную песню, залепляя глаза мира белой глиной, хоронившей под собой улицы, крыши, былые надежды. А внутри, в этом оазисе тепла и упорядоченного бега секунд, старый часовщик Арвид вёл свою тихую, отчаянную войну с внутренней вьюгой – метелью из утраченных воспоминаний, что заполняла его с каждым новым даром и кружилась вихрем могильного праха. На верстаке, горьким укором растраченной радости, лежала беззвучная птица – хрупкая механическая душа, лишённая голоса. Пальцы, эти послушные слуги точности, действовали с выверенным автоматизмом, но были холодны, ровно высечены из льда, – казалось, они не согревались теплом тела, а напротив, отдавали накопленный внутренний холод во внешний мир, остужая саму материю.
Без стука, медленно, нерешительно, подалась внутрь дверь. И в эту щель ворвался, завывая, порыв студёного ветра, устроивший в проёме дикий, снежинковый хоровод. На пороге, вторгшись в мерное царство времени, стоял мужчина. Длинный, дорогой плащ, не ведавший влаги, облегал высокую фигуру. Не годы, а тяжкие, непосильные решения прочертили на лице его глубокие, безрадостные борозды. В осанке, даже теперь, угадывалась привычная власть, железная воля, приученная повелевать, – но сейчас она была сломлена, надтреснута, согнута под чудовищной, невидимой миру тяжестью.
Вошёл он тяжко, громко ступая по полу, а за ним оживали лужицы тающего снега, словно следы покинувшей его силы. Взгляд, тяжёлый и потухший, скользнул по бесчисленным полкам, уставленным часами, но не увидел ничего, не воспринял их мерного дыхания. Он смотрел куда-то внутрь себя, в какую-то страшную, бездонную пустоту, что разверзлась в самой сердцевине его существа.
– Часы… – произнёс он наконец, и голос, привыкший греметь под сводами судебных залов, прозвучал глухо, устало, выдохшись до последней степени человеческого изнеможения. – Мне говорили… вы даёте время. Шанс на раздумье.
Арвид не ответил. Лишь чуть склонил голову, весь превратившись во внимание. Он узнал этого человека. Узнал по портретам в газетах, по вещающим голосам из радиоприёмников. Судья. Вершитель. Тот, кто вольно или невольно держал в своих руках нити человеческих судеб.
– Завтра… – судья сглотнул ком отчаяния, подступивший к горлу, и отвел глаза в сторону, точно стыдясь своих следующих слов. – Завтра я вынесу приговор. Человеку. Возможно… почти наверняка… невиновному.
Он замолчал, прислушиваясь к грозному, неумолкаемому гулу собственной совести, который заглушал всё остальное.
– Улики – ничто, прах, ерунда. Свидетели лгут или боятся. Адвокат… адвокат ничтожен. А толпа… толпа жаждет крови. Давление… – он сжал кулаки, и костяшки пальцев побелели от напряжения, – давление страшное, нестерпимое. И я… я больше не вижу истины. Вижу лишь клетку. Загон. С одной стороны которого – закон, сухой и беспристрастный. А с другой… с другой – ничто, кромешная тьма. И страх. Животный, парализующий страх ошибиться. Завтра утром я поставлю подпись. И этот человек… его или убьют, или сгноят в каменном мешке. Но я… я буду виноват в любом случае. Виновен в его смерти или в собственном малодушии. В предательстве доверия.
Он поднял на Арвида глаза, и часовщик разглядел в них бездну. Ту самую, знакомую ему по многим приходящим сюда душам, но теперь доведённую до самого своего предела, до последней черты, – отчаяние человека, стоящего на краю пропасти и не видящего ни пути назад, ни возможности шагнуть вперёд.
– Мне не нужны ваши часы, мастер. Мне не нужно мгновение. Мне нужна… пауза. Полная остановка. Чтобы услышать наконец не закон, не голоса толпы, а безмолвие. Чтобы услышать… себя. Не судью – человека. Всего один миг. Один-единственный миг вне времени.
Арвид смотрел на него. И та самая пустота, что осталась внутри после утраты личной радости, после потери дара, вдруг заныла с новой, пронзительной силой. Он знал цену. Чувствовал растущий, иссушающий душу ужас грядущей потери. Но вид этого могущественного, ныне сломленного титана, взвалившего на свои плечи не просто груз решения, а бремя чужой жизни, был сильнее страха. Сильнее отчаяния. Сильнее всего.
Молча, не проронив ни слова, он кивнул с той поистине эпической смиренностью, что даётся лишь сильным духом. Развернулся и тяжёлой, мерной поступью направился в подвал. Судья остался ждать. Покорно, опустив голову, как осуждённый, ждущий своей участи на эшафоте, не смея взглянуть по сторонам.
Ждал и Хронометр. Мягкое, безразличное сияние в сыром полумраке подвала казалось ядовитой, циничной насмешкой над всеми человеческими муками, над тщетностью их метаний и болью их совести. Тонкая, неумолимая ртутная струйка плыла, безжалостно отсчитывая вечность, в которой для человеческих сомнений и страданий не было и не могло быть никакого пристанища.
Прикосновение к рычагу. Ледяной ожог, уже знакомый, как приветствие старого, ненавистного врага. Давление. Чудовищное, необоримое, взгромоздилось на плечи многопудовой тяжестью небесного свода. Казалось, кости вот-вот треснут, не выдержав чудовищной ноши остановленной вечности. Боль стала фоном, частью великого и ужасного ритуала. И лишь одно последнее волевое усилие – последний оплот опустошённой, истерзанной личности – противостояло ей.
Щелчок.
Безмолвие.
Тишина предельная, немыслимая. Сама вечность затаила дыхание, и мироздание, скрипящее своими бесчисленными шестернями, остановилось, замерло в неописуемом изумлении перед актом человеческой воли. За стенами мгновенно испустил дух завывающий ветер, и мир погрузился в бездну безмолвия, более глубокого, чем самая глубокая могила.
Наступила пустота. Полное, окончательное растворение.
Влажный, пропитанный запахом столетий холод подвала бесследно растаял, сменившись иной, неземной субстанцией – сухой, стерильной, леденящей душу прохладой. Но это была не прохлада зала суда, с его тяжким воздухом, насыщенным испарениями страха и пота. Это было Ничто. Абсолютная, выхолощенная, беззвёздная пустота первозданного хаоса, лишённая формы и массы. И в эту пустоту проник, казалось, сам запах вечности – пыль распавшихся на атомы фолиантов, воск угасших свечей, сладковато-горькое тление былых надежд.
Исчезло всё. Не просто звуки – исчезла сама возможность звука. Растворились стены, испарилась давящая тяжесть мундира, улетучился гнетущий груз тысяч ненавидящих или умоляющих глаз. Не осталось ни советников, ни подсудимого с его бездной отчаяния в глазах, ни даже собственного имени, этого ярлыка, прибитого к плоти. Остался лишь он – судья – голое, стерильное сознание, лишённое оболочки, титула, памяти о всех прошлых приговорах, этот одинокий дух, забредший на окраину мироздания. И перед ним, парящие в белесом, безвоздушном пространстве межвременья, два листа. Они светились ровным, призрачным светом, и на них не было ни гербовых печатей, ни витиеватых подписей – лишь два слова, выжженные огнём неумолимой судьбы, кристально чистая суть выбора, доведённая до математического абсурда: КРОВЬ на одном. ЖИЗНЬ на другом.
Арвид, всевидящий дух-свидетель, наблюдал из тьмы. Он видел, как сознание человека, наконец-то освобождённое от тирании плоти и удушающих пут общества, медленно, с неотвратимостью небесного светила, движимое лишь гравитацией собственной совести, стало вращаться вокруг этой дилеммы. Оно не судило, не размышляло, не взвешивало – оно созерцало. Без паники, без страха, без смертельной усталости. Секунды растягивались в века, минуты – в эпохи чистого, незамутнённого познания добра и зла.
И в этом вакууме, где не было места человеческим эмоциям, где само пространство было слишком тонким для них, медленно, как проявляется изображение на древней фотопластине, родился вердикт. Не вспышка озарения ослеплённого смертного, а неотвратимое, величественное проявление Истины из первородного хаоса. Это было не его, личное, частное решение судьи. Это было Решение как таковое, рождённое в горниле абсолютного космоса.
Потом пространство, содрогнувшись, вновь обрело форму. Проявился массивный стол, тяжёлое, знакомое перо во вновь обретшей плоть руке. Облик, на который вернулись все морщины, изменился неузнаваемо. С него ровно стёрли маску панического ужаса, оставив лишь обнажённую печать познания. Но сквозь эту печать пробивался новый луч – ясность. Та самая, что добывается не в спорах и изучении кодексов, а в безмолвном диалоге с вечностью.
Он вернулся к столу, не удостоив лежащие перед ним бумаги даже мимолётным взглядом. Пальцы уверенно взяли перо, но потянулись не к готовому приговору. Он достал из ящика чистый, девственный лист и начал писать. Быстро, уверенно, без малейшего колебания, без единой помарки. Писал не приговор – запрос. На вскрытие всех улик, на допрос всех свидетелей, на отсрочку, купленную ценою собственной карьеры и спокойствия. Слова ложились на бумагу твёрдые, выверенные, отлитые в тигле пережитого откровения, рождённые не страхом перед ошибкой, но пробудившейся, очищенной и закалённой в священном пламени пустоты совестью.
Щелчок. Резкий, сухой.
Замерший на краю бездны мир, вздрогнул всем своим веществом, судорожно рванулся вперёд, и время, сорвавшись с паузы, помчалось с утроенной, неистовой скоростью, наверстывая упущенное.
Арвид стоял один в своей мастерской, опираясь о косяк двери, ведущей в подвал, и чувствовал, как подкашиваются ноги, точно выпили из них всю костную силу. Знакомая волна тошноты и опустошения накатила тяжёлой, солёной волной, но на этот раз она была иной – не обжигающе-горячей, а леденяще-холодной, пронизывающей до самых глубин остывшей души.
Сделав несколько неуверенных шагов, он пытался осмыслить произошедшее, облечь в слова то, что было пережито там, в безвременье. Взгляд, блуждающий и отсутствующий, упал на газету, брошенную поперёк стола. Кричащий заголовок говорил о громком процессе. Рядом – портрет того самого судьи, объявившего о неожиданном переносе заседания, о необходимости нового, дополнительного расследования. Текст сообщал о возмущении общественности, но решение было принято, и в формулировках сквозила уже не паника, а непоколебимая, железная воля.
Арвид должен был чувствовать в этот миг облегчение. Должен был испытывать глубокое удовлетворение. Он спас человека. Помог воцариться справедливости, этой хрупкой птице, вырваться из клетки беззакония.
Но не почувствовал ничего. Ровным счётом ничего.
Он попытался насильно вызвать в себе картину справедливости – то самое острое, жгучее чувство, что заставляло кровь бурлить и кипеть при виде несправедливости, заставлявшего сердце трепетать от радости при виде торжества права. Оно было… здесь. Где-то на дальней периферии памяти, как факт, как теорема. Он знал, что такое справедливость, понимал её концепцию, её математическую и юридическую формулу. Но само чувство, тот самый эмоциональный отклик, тот внутренний компас, что с детства безошибочно указывал на «правильно» и «неправильно» – исчез. Стерся, как стирается монета от долгого обращения. Осталась лишь безжизненная, мёртвая схема. Как закон, лишённый духа милосердия. Как приговор, лишённый человеческого понимания.
Ноги сами, помимо воли, привели к окну. Взор, остекленевший и пустой, выхватил из заснеженной мглы улицы сцену: богатый извозчик, разъярённый и крикливый, отбирал у мальчишки-разносчика, этого замёрзшего воробышка, последние жалкие гроши. Раньше его бы затрясло от праведного, бессильного гнева, от острого, режущего желания броситься туда, вмешаться, защитить. Теперь же он лишь бесстрастно констатировал факт: это не справедливо. Без гнева. Без сострадания. С полным, спокойным безразличием стороннего наблюдателя, для которого всё сущее – лишь набор движущихся фигур.
И тогда он увидел её.
Она стояла прямо посреди улицы, в самом эпицентре метели, и снег, бешеный и слепой, кружился вокруг неё белой пеной, но не смел коснуться складок тёмного, строгого платья. Она взирала на него. Прямо в него – через стекло, через метель, через вечность. В руках, воздетых, как для вечного суда, держала старинные, бронзовые, почерневшие от времени весы – древний символ правосудия. Чаши их качались, находясь в идеальном, математическом равновесии. Лицо было неподвижным и строгим, высеченным из мрамора, лишённым и возраста, и пола, – настоящий лик самой Фемиды. Но в глазах – в бездонных, тёмных, знающих всё глазах – читалась не печаль и не гнев, а нечто иное, куда более страшное. Признание. Она видела, что он, Арвид, наконец-то добрался до сути их страшной сделки, до самой сердцевины приносимой жертвы. Он потерял не просто память о радости – потерял саму мораль, саму способность чувствовать различие между добром и злом. Стал чистым, бесстрастным инструментом, лишённым собственной шкалы ценностей, проводником высшей, безличной и беспощадной Справедливости.
Она медленно, торжественно кивнула, подтверждая самую страшную догадку. Потом развернулась и пошла прочь, унося с собой вечные, бесстрастные весы. Метель мгновенно поглотила тёмную фигуру, будто её никогда не существовало.
Арвид остался один. Один с чернильной, беззвёздной пустотой внутри. Он больше не чувствовал разницы. Он лишь дарил Паузы. И платил за них своей душой.
Пауза 6 – для Прощания
Великая, неумолимая весна, безудержная в своем шествии, уже дышала на мир влажным, тёплым дыханием, весело звеня капелями с крыш, подстрекая к пробуждению дремлющую землю. Но здесь, в царстве металла и тикающего стекла, имя которому «Хронос», царила вечная, неподвижно-тихая осень. Время, обессилевшим великаном, застыло в золотистом, густом и обманчивом янтаре одиночества.
В этой броне молчания, за стеклом, отделяющим от бьющегося в лихорадке жизни мира, существовал человек. Арвид. Он стал частью механизма, его продолжением – точным, выверенным, бездушным. Чудовищная пустота, что осталась после былых дерзаний и даров, выела изнутри, стала его плотью и сутью. Он более не вспоминал утраченные чувства – они превратились в чужие, бессмысленные термины, в сухие строки забытой книги. Он стал функцией. Единственной и страшной: остановка мироздания.
И вот безмолвие, эту великую и гнетущую тишину вечности, вспороли неспешные, тяжёлые шаги на крыльце. Раздался не стук – это было скорее шарканье, усталое и обречённое, прерываемое глухим, мертвенным постукиванием палки о камень. Дверь отворилась, и в щель проник не ветер, а нечто иное – запах. Тление. Тяжёлый дух лекарственных настоек, воска, и слабый, едва уловимый, но неумолимый дух угасания, предсмертного томления плоти.
Вошедшая в эту крепость безвременья была совсем юной, лет шестнадцати, не больше. Но на бледном, заплаканном лице с огромными, бездонными глазами уже лежала печать великого горя, того, что меняет человека раз и навсегда. В этих глазах, казалось, застыл весь ужас мира, вся детская беспомощность перед ликом вечности. Одежда была простой, но чистой, чуть помятой, точно она не снимала её долгие дни и ночи, проводя их в тщетной борьбе. Узкими, сжатыми ладонями она прижимала к груди крошечные карманные часики в стёршемся серебряном корпусе – ничтожную, жалкую преграду на пути неумолимого.
– Мастер… – голосок, тонкий и надтреснутый, едва пробиваясь сквозь могучее, неторопливое биение маятников, потонул в их мерном, безразличном гуле. – Дедушка… Он уходит. Совсем. – Она сглотнула, пытаясь задавить подкатывающую к горлу дрожь, но тщетно. – Врачи сказали, к утру… Он не говорит уже, только дышит. Так тяжело дышит, мастер… будто песок сквозь него сыплется…
И тогда слёзы, сдерживаемые до этого мгновения всей силой юной воли, хлынули по бледным щекам. Она не вытирала их, лишь стиснула в ладони часики так, что узоры должны были врезаться в кожу.
– Я опоздала… Из города не могла выбраться, дороги размыло… Прибежала, а он уже не смотрит, не видит меня… Я должна была сказать… столько всего. Всю свою благодарность. Всю любовь. Попросить прощения за все глупые капризы… А он… он, наверное, тоже застыл в этом молчании, зажав в себе последние, самые важные слова. Напоследок. – Голос её сорвался, захлебнувшись рыданием, в котором была вся боль мира.
– Теперь он просто лежит и смотрит в потолок. И времени нет. Совсем нет. Всего один миг… одно тихое, ясное мгновение, чтобы всё сказать. Чтобы попрощаться. Не с его телом… а с ним. С ним самим!
Она подняла на Арвида глаза, и это был уже не взгляд отчаяния – это была обречённая, последняя мольба. Мольба о чуде, в которое сама перестала верить, но от которого всё ещё ждала спасения, как тонущий ждёт соломинки.
Арвид смотрел на неё. В глубине его существа, в том обледенелом провале, что стал новой сущностью, не дрогнула ни одна струна, не шевельнулось ни одно подобие жалости. Но механическая, отточенная до идеала часть – та, что давно подчинила себе всё остальное – сработала безотказно, как того требовал безжалостный закон. Здесь был запрос. Требовалась Пауза. Его единственная функция. Роковое предназначение.
Молча, с непроницаемым лицом статуи, он кивнул. Девушка, не ожидавшая даже этого призрачного согласия, замерла, а потом кивнула в ответ, с бесконечной благодарностью принимая молчаливое понимание, этот странный союз в безмолвии.
Спуск в подвал был отработанным, до автоматизма. Тело перемещалось само, повинуясь не мысли, но воле механизма, игнорируя кандальную тяжесть в ногах, леденящий ужас, подкатывающий комом к самому горлу. Хронометр ждал. Мертвенное, безразличное свечение казалось теперь единственной константой, последней точкой опоры в рушащемся, погружающемся во мрак мире.
Прикосновение к рычагу. Ледяной ожог, пронзающий до костей. Давление. Боль. Всё это было лишь фоном, не более чем шумом великой и бесчувственной системы, в которую он превратился. И затем – волевое усилие. Но не его воля владела рукой – это была воля самого механизма, древняя и неумолимая, требовавшая неукоснительного исполнения заложенной программы.
Щелчок.
Тишина
Вакуум. Растворение.
Запах мастерской, густой, привычный, пронизанный едким духом машинного масла, растаял, рассеялся, уступив место иному – тяжёлому, спёртому, насквозь пропитанному смрадом бедности, неторопливого угасания и горьких лекарственных настоек воздуху. Им вторил сладковатый, пыльный дух сушёных трав, разложенных у изголовья, – последняя, тщетная ограда от неминуемого.
И вот они стояли у ложа. Ложа, на котором, под лоскутным одеялом, укрывшим последней земной печалью, лежал старик. Он был худ до прозрачности, до той страшной, хрупкой грани, где человеческая плоть начинает уподобляться пергаменту, сквозь который просвечивает вечность. Глаза были закрыты, рот приоткрыт в судорожном, предсмертном полувдохе. Дыхание, ещё недавно тихое и прерывистое, теперь замерло, отринутое безвозвратно. Рука, лежащая поверх одеяла, застыла в полусогнутом положении, застигнутая в момент последнего, несостоявшегося жеста.
Девушка замерла на коленях у постели, приникнув к грубому одеялу, всё её существо, каждое напряжение скорбных плеч, выкрикивало беззвучное, отчаянное рыдание. И комната в ответ застыла в оцепенении, в великом и страшном молчании остановленного мгновения: луч пыльного весеннего солнца, пробившийся в оконце, муха, замершая на самом краю тени, застывшая на закопчённой стене – всё стало частью грандиозного и неподвижного полотна.