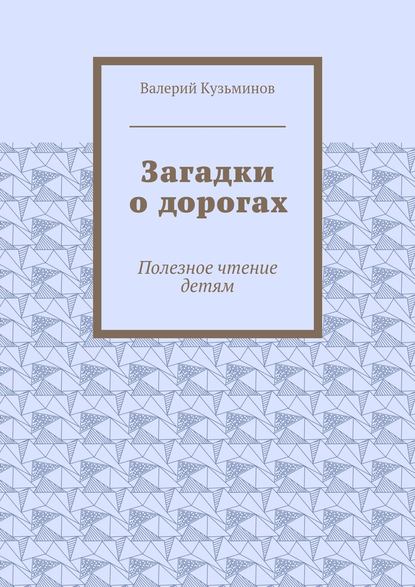Глина дней

- -
- 100%
- +
Арвид, незримый свидетель, дух из иного измерения, наблюдал. Его сознание, не дрогнув, впитывало картину, фиксируя малейшее движение, рождённое в толще этой густой, желеобразной временной паузы. Он видел, как девушка, преодолевая гнетущую, вязкую тяжесть не-времени, медленно, с нечеловеческим усилием поднимает голову. Как лицо её, залитое беззвучными слезами, обращается к деду. И тогда хлынули слова. Те самые, ради которых и был призван он, мастер Паузы. Слова любви, бесконечной благодарности, прощания. Они лились тихим, прерывающимся, но неудержимым потоком, согревая своим человеческим теплом мертвенно-неподвижный, стылый воздух.
Потом она замолкла, склонив голову, вся, превратившись в слух, в ожидание, в смиренную, исступлённую мольбу. И случилось оно. Чудо, вырванное у вечности силой её воли. Веки старика, медленные и тяжёлые, налитые свинцом, приподнялись. В глазах, затуманенных болезнью и близостью небытия, возник проблеск – ясный, чистый, последняя ослепительная вспышка сознания, ума и безграничной любви. Иссохшая, почти невесомая рука дрогнула, и пальцы, тонкие, слабые, с невероятным усилием жизни сомкнулись вокруг её запястий. Губы шевельнулись, и родился шёпот. Всего одна фраза. Короткая, кристально ясная, наполненная таким глубоким чувством, что сама ткань остановленного времени, казалось, содрогнулась, затрещала по швам, не в силах сдержать напора этой последней, прощальной правды.
Девушка ахнула, и этот возглас прозвучал как вздох самой вселенной. Она прижала его слабеющую руку к своей щеке, застыв в этом мгновении абсолютного, безмолвного понимания, в этом высшем таинстве окончательного прощания, которое навеки останется жить в ней.
Щелчок. Резкий, сухой.
Мир, замерший в хрустальном безмолвии, содрогнулся, треснул и рванулся вперёд с такой ослепительной, такой жестокой скоростью, стремясь наверстать упущенное, вырванное у него силой мгновение.
Дыхание старика – та нить, что ещё трепетала в груди, – оборвалось. Окончательно. Бесповоротно. Тело, бывшее сосудом стольких лет и стольких чувств, безвольно обмякло, смирившись с небытием. Девушка рыдала теперь громко, надрывно, и в этих рыданиях, вырывавшихся из глубины израненной души, было не только безудержное страдание, но и странное, пронзительное облегчение, и безмерная благодарность за дарованный миг истинного прощания.
Арвида в комнате уже не было.
Он стоял в мастерской, в царстве тикающего металла, застывшего янтаря, и не чувствовал ничего. Ни привычной тошноты, ни сокрушительной усталости, выжигающей душу. Лишь полую внутреннюю пустоту, великую и безразличную. Он сделал то, для чего был создан. Функция была выполнена. Механизм сработал безупречно.
И тогда взор его, прозрачный и отстранённый, упал на старую фотографию в замысловатой рамке, пылившуюся на камине. На ней был запечатлен он сам, ещё мальчишка, с ясным, незнакомым теперь взглядом. И старик, с окладистой, седой бородой, с удивительно добрыми, мудрыми глазами, которые одни лишь не поддались суровости выражения. Его дед. Тот, чьи руки, умелые и тёплые, пахли деревом и лаком, учили первым, самым важным тайнам ремесла, вкладывая в пальцы внука не просто инструменты, но саму душу вещей.
Арвид попытался вспомнить. Не факт, не сухую дату в календаре памяти. Попытался извлечь из небытия тот самый миг. Последний. День, когда умирал его собственный дед. Он знал, что был там. Сидел у постели. Дед что-то говорил ему, сжимая его руку своей ослабевшей ладонью. Что-то очень важное. Не просто слова – завещание. Последний наказ. Последнее напутствие, которое должно было стать путеводной звездой на всю оставшуюся жизнь.
И – ничего не вспомнил.
Провал. Чёрная, бездонная пропасть, зияющая на месте самого святого воспоминания. Он помнил факт смерти. Но сами слова, их звучание, их сокровенный смысл, их эмоциональная тяжесть – всё было стёрто. Утрачено навсегда, выжжено калёным железом. Осталось лишь смутное, бесформенное ощущение потери, лишённое всякого содержания, да достоверное, безжизненное знание, что когда-то что-то бесконечно ценное было ему сказано, а теперь навсегда утеряно.
Он подошёл, взял в руки рамку. Смотрел на пожелтевшую карточку, впиваясь в черты старика, пытаясь силой воли, силой отчаяния вырвать из глубин памяти хоть отзвук того голоса, хоть обрывок заветной фразы. В ответ – лишь молчание. Гулкое, бесприютное. Слух забивало лишь мерное тиканье сотен механизмов и нарастающее эхо в собственной голове.
Взгляд, перемещаясь механически, как-бы против воли, упёрся в дверной проём. Она стояла там. Не на улице, не в тени – прямо здесь, на пороге святилища, его крепости. В тёмных, бездонных глазах не было упрёка. Лишь бесконечная, вселенская, всепонимающая скорбь. В вытянутой бледной руке она держала не меч и не весы – держала песочные часы. Песок в них не тек. Он был полностью в верхней колбе, застывший, мёртвый, остановленный навеки, а сама колба, приклеилась к перевернутой вниз ладони. Символ времени, которое не было даровано. Символ последнего, навеки упущенного мгновения, которое он сам не смог или не захотел получить.
Она не произнесла ни единого слова. Простояла так, быть может, миг, а быть может – целую вечность. Затем так же медленно, беззвучно повернулась и вышла, растворившись в слепящем свете весеннего дня, оставив дверь распахнутой настежь.
Арвид остался один. С фотографией в онемевших пальцах. С мертвой, абсолютной тишиной, воцарившейся внутри. Он отдал последние, прощальные мгновения чужой любви. И заплатил за это сполна – своими собственными.
Пауза 7 – для Поэта
Лето пришло в мир не постепенно, не робкими шагами, а обрушилось единым, оглушительным ударом – слепящим взрывом зелени и удушающим, плотным зноем, что сдавил землю удушающим жаром. В мастерской «Хронос» атмосфера застыла, густая и тяжкая, насквозь пропитанная сладковатой пылью забвения. Ритмичный, мертвенный бег множества часов звучал приглушенно, доносясь словно бы из иного, параллельного мира, из-за толстой перегородки бытия. Арвид уже не чинил – он, подобно автомату, перемещал предметы с места на место, бесцельно, механически, силясь заглушить разрастающийся звон внутренней пустоты, что разверзлась внутри. Потеря последних слов деда оставила после себя не острую боль, но нечто куда более страшное и необратимое – ощущение фундаментальной, роковой ошибки, чудовищной трещины, пролёгшей через самую сердцевину существа. Он был подобен изысканным часам с вынутой пружиной – внешняя форма сохранилась в идеальной неприкосновенности, но великая тайна жизни, сам её сокровенный ход, бесследно затих.
В дверь постучали. Стук был легким, нервным, почти призрачным, едва различимым под мощный, немолчный аккомпанемент уличной жары. Арвид не отозвался, не шевельнулся, будто не расслышав. Стук повторился – уже настойчивее, требовательнее, полный какой-то исступленной надежды.
На пороге стоял молодой человек в потёртом, поношенном сюртуке, с бледным, исхудавшим до прозрачности лицом вечного городского интеллигента. Но что поражало и приковывало взгляд – так это глаза: огромные, бездонные, горящие напряженным, лихорадочным блеском одержимости. В тонких, бессильно сжатых пальцах он судорожно сжимал потрёпанный кожаный портфель, туго набитый бумагами – казалось, в нём заключена была вся короткая, мятежная жизнь.
– Мастер? – голос был тихим, срывающимся, похожим на шелест сухого листа, но в его глубине чувствовалась сжатая пружиной напряжённая энергия. – Мне сказали… я слышал… что вы можете помочь. Не деньгами. Нет. Никогда деньгами. Возможностью. Мне нужно время
Он вошёл без приглашения, движимый единым, неистовым порывом. Взгляд, острый и пронзительный, скользнул по Арвиду, но не увидел живого человека – увидел лишь функцию, единственную возможность, последний шанс. Он был всецело поглощён собой, своей внутренней, сокрушительной бурей, что грозила вот-вот разорвать изнутри.
– Она уходит, – прошептал он, больше себе, чем безмолвному хозяину, и в шёпоте этом звучала бездна отчаяния. – Идея. Совершенная, кристальная, чистая, как утренний лёд. Она здесь, – он с силой, яростно постучал пальцем по своему виску, – я чувствую её, каждую её грань! Но слова… проклятые слова убегают, как вода сквозь пальцы. Рассыпаются в прах. Я их ловлю, хватаю, а они превращаются в воду, в жалкую, пошлую банальность.
Резкими, порывистыми, ломанными движениями он зашагал по мастерской, как метроном своего внутреннего смятения.
– Вчера… ночью… она была цельной! Я чувствовал её вкус на губах, её музыку в крови! А утром – ничего. Лишь смутный, ускользающий образ, бледная тень былого величия. И время… завтра утром. Мой последний срок. Последний шанс. Издатель ждёт. А у меня… ничего. Совершенная пустота. Он остановился, схватившись за голову руками, в жесте, полном мучительной агонии. – Один миг… всего один миг совершенного безмолвия, чтобы услышать снова! Чтобы поймать и заключить её в буквы. Не для славы. Ради неё самой. Ради истинной поэзии, что тщетно рвётся родиться на свет!
Он посмотрел на Арвида, и в его взоре была не униженная мольба, а отчаянная, пожирающая жажда творца, готового сжечь начисто себя самого, свою душу, лишь бы дать жизнь произведению.
Арвид глядел на него. Мимо него. Бездонная пустота внутри не дрогнула, не колыхнулась. Не возникло ни искры сочувствия, ни тени раздражения. Был лишь болезненный, автоматический отклик на внешний запрос. Функция. Единственное оставшееся предназначение в этом мире. Р и т у а л.
Молча, без единого слова, он развернулся и пошёл к лестнице, что вела в сырой, затхлый подвал. Поэт, не ожидавший такого прямого и безмолвного ответа, на мгновение ошеломленно замер, потом ринулся за ним следом, портфель громко хлопнул по худой ноге, но был тут же остановлен властным, предостерегающим жестом мастера.
– Жди здесь.
Спуск вниз был отработанным, безжизненным движением мумии, давно забывшей о собственной воле. Ноги сами несли вниз по знакомым ступеням. Хронометр ждал. Его отрешенное сияние, в полумраке казалось всевековой насмешкой над сиюминутным человеческим вдохновением, над этой жалкой и великой страстью к творению.
Прикосновение к рычагу. Тот же ледяной ожог, знакомый до тошноты, до отвращения. Напор. Стук в висках. Боль в сжатых мышцах. Всё это было лишь шумом великой системы, помехами, не стоящими внимания. И затем – волевое усилие. Но не его воля, нет. Это была воля самого древнего, бездушного механизма, требующего неукоснительного, точного исполнения – раз и навсегда предопределённого ритуала.
Щелчок.
Тишина.
Пустота.
Резкий, прогорклый запах машинного масла и остывшего металла, что висел на Арвиде как вторая кожа, растворился, уступив место удушливой атмосфере мансарды – тяжёлой, спёртой, пропитанной едкой пылью, кисловатым духом дешёвого табака и горьковатым, вечным ароматом старой, медленно умирающей бумаги. Они стояли посреди этого хаоса, этого святилища нищеты и мысли, заваленного грудами книг, безумными спиралями исписанных рукописей, где лето, пылавшее за запылённым окном, казалось, теряло свою силу, – его яростный свет был застывшим, неподвижным, пригвождённым к полу, как бабочка в коллекции.
Поэт сидел за столом, склонившись над зияющей белизной чистого листа, и в этой согбенной позе читалась вся безмерность его мучения. Перо в тонких, нервных пальцах было занесено для смертоносного удара, но так и не коснулось бумаги, застыв в мучительном промежутке между волей и немощью. Рядом, как приговор, лежала смятая, жалкая записка от издателя. Лицо юноши было страшно искажено внутренней борьбой, на высоком, чистом лбу, как роса агонии, выступили и застыли капли холодного пота. Он смотрел в пустоту перед собой, и в глубине расширенных, невидящих зрачков плавал неприкрытый, животный ужас перед надвигающимся, неминуемым провалом, перед крахом надежд.
Арвид, вечный часовщик судеб, наблюдал. Чуждое, опустошённое сознание, лишённое собственных чувств, с механической точностью фиксировало картину величайшего преодоления: поэт, превозмогая чудовищную, мёртвую вязкость не-времени, этой искусственной вечности, с титаническим усилием, миллиметр за миллиметром, опускал своё перо. Как затем откидывался на спинку стула, сбросив со своих плеч невыносимую тяжесть, и закрывал глаза, точно в глубочайшем обмороке. И тогда – медленно, постепенно – его измождённое лицо стало расслабляться, адское напряжение спадало, уступая место иному, неведомому состоянию. Минута. Другая. Он не спал – слушал. Вслушивался в абсолютное беззвучие, ловил в его бездонных глубинах ускользающий, зыбкий образ.
И тогда – свершилось. Произошло то самое чудо, ради которого он был готов сжечь душу. Веки его распахнулись. И в глазах, ещё недавно наполненных лишь ужасом пустоты, вспыхнул, загорелся, взорвался тот самый дикий, лихорадочный огонь, о котором он говорил с таким исступлением. Не человек, а само воплощённое вдохновение. С рычанием триумфа он набросился на бумагу, и перо в руке помчалось по ней с бешеной, нечеловеческой скоростью. Слова, рождённые в бездонной выси духа, ложились строчка за строчкой, идеальные, выверенные, наполненные сокрушительной силой и кристальным смыслом. Он уже не писал – он, застывший в экстазе, лишь записывал под безошибочную диктовку самой вселенной, на миг пойманной им в хрустальную ловушку дарованной Паузы безвременья.
Щелчок. Резкий, сухой.
Застывший на краю вечности мир, вздрогнул всем своим существом, судорожно рванулся и помчался вперёд с лихорадочной, оглушительной скоростью, навёрстывая отнятые мгновения. Грохот улицы, ликующий щебет птиц, навязчивые крики разносчиков – всё это единой, грубой волной ворвалось в распахнутое окно, сметая хрупкое безмолвие творения. Поэт ахнул, как ошпаренный, отпрянул от стола, с диким изумлением взирая на исписанный, дымящийся свежими чернилами лист. Затем, с тихим рыданием, схватил его, начал жадно читать, и по исхудалому, измождённому облику, разлилось сияние – восторг чистого, безраздельного узнавания, смешанный с благоговейным ужасом перед чудом. Он смеялся сквозь слёзы, плакал от счастья, целовал исписанную бумагу, словно припадал к источнику живой воды.
А в это время Арвид стоял посреди мастерской. Стоял недвижно, каменным столбом, вмурованным в землю. Внутри него – ничего. Лишь неодолимая, беззвучная пустота, гулявшая по вымершим залам души. Он выполнил свою функцию. Механизм сработал. Шестерёнки провернулись и замолкли.
Взор, блуждающий и безучастный, упал на самую дальнюю полку, что была заставлена старыми, позабытыми фолиантами и дубовыми ящиками с инструментом. Туда, в самый угол, в самую глубь, куда годами не добирались руки, под густым, терпким слоем забвения лежала она – тонкая, потрёпанная тетрадь в потертом кожаном переплёте. Его тетрадь. Стихи, что он слагал когда-то, в другой, невозвратимой жизни, оставшейся за гранью бытия. До того, как его пальцы впервые коснулись магического циферблата Хронометра.
Он медленно подошёл, взял её в руки. Многолетняя пыль горькой россыпью ударила в ноздри. Открыл тетрадь на случайной странице. Увидел строки, выведенные своим же, знакомым до боли почерком. Узнал каждую закорючку. Но слова… они были чужими, плоскими, как выцветшие картины. Он вглядывался в них, впивался глазами, силясь вызвать в окаменевшей душе хоть какой-то отзвук, воскресить то чувство, тот неукротимый порыв, что заставил когда-то излить их на бумагу. Любовь? Тоска? Восторг?
Ничего.
Бездонная, чёрная, беззвучная тишина, зияющая на месте всего живого. В памяти был лишь голый, беспристрастный факт: когда-то он писал стихи. Помнил, словно со стороны, кому они были посвящены – той девушке с россыпью веснушек на носу и со смехом, чистым, как звон хрустального колокольчика. Но сами чувства, плоть и кровь той любви, то страдание, та радость – всё бесследно испарилось. Стерлось, как стирается надпись с грифельной доски, будто их никогда и не было вовсе. Стихи стали мёртвым набором слов, лишённых малейшей трепетности, всякого смысла и эмоциональной силы. Он потерял не просто память – потерял саму способность чувствовать то, что когда-то создал, он вытравил в себе душу творца.
С тихим стоном, в котором звучала агония всего его существа, он швырнул тетрадь на пол. Бумажные листы, испещренные свидетельствами его прежней жизни, с шелестом разлетелись веером. Арвид стоял, тяжело и прерывисто дыша, глядя на эти бесполезные, мёртвые символы, на неоспоримое доказательство своей собственной, окончательной духовной смерти.
И тогда вновь увидел её. Она стояла здесь же, в густеющих сумерках мастерской, в тени у книжных полок, ровно всегда была неотъемлемой частью этого интерьера, его молчаливой хозяйкой. В бледных, бесплотных руках уже не было ни песочных часов, ни весов – она держала старинное, иссиня-чёрное воронье перо. Сломанное пополам, как сломанная судьба.
Она смотрела на него. В бездонном, нечеловеческом взгляде не было ни скорби, ни упрёка, ни торжества. Лишь бесконечная, леденящая душу ясность говорила без слов: «Вот и всё. Ты отдал последнее, что связывало тебя с ними. Ты больше не творец. Отныне ты – инструмент. Пустой сосуд».
Она не стала уходить. Стояла, медленно растворяясь в сгущающихся тенях, становясь плоть от плоти той великой пустоты, что наполняла теперь его до краёв. Её молчание было громче любого крика, яснее любого приговора.
Арвид, подкошенный этой скорбной вестью, опустился на пол, среди разбросанных, поруганных стихов. Поднял один из них, попытался снова прочесть, вглядеться в знакомые очертания букв. Но слова рассыпались, отказываясь складываться в смыслы. Они были лишь чёрными, ничего не значащими закорючками на пожелтевшей, безжизненной бумаге. Сидел он так долго, не шевелясь, пока за окном не стемнело окончательно, и мерный, безразличный бег многочисленных хронометров не стал единственным отзвуком, царившим в его пустом, вымершем мире.
Пауза 8 – для Беглеца
Ночь в «Хроносе» была не временем, но субстанцией мироздания, первозданной гущей, слепой материей, что залила собой мир, поглотила звук, свет и саму мысль. Арвид не спал. Сон был уступкой плоти, а плоть его давно перестала быть тленной оболочкой, превратившись в орудие, отточенное и не знающее устали, в бездушный механизм, не требующий пощады. Он пребывал в кресле, сросшийся с мраком, неподвижный, и сознание его было подобно гладкому, отполированному веками валуну, что лежит на непостижимой глубине чёрной, гремучей реки, и не касается его ни луч, ни шум.
Беззвучие, – эту великую, кладбищенскую тишь – расколол не шум, а вопль. Вопль отчаянный, вырванный из безжалостной глотки бытия, животный, надрывный. За дверью взметнулся скрежет железа о камень, послышалось тяжелое, хриплое дыхание и глухой удар – падение тела о каменные ступени. Затем – шепот. Не мольба, а яростный, царапающий душу шёпот, вползающий змеёй в замочную скважину:
– Открой… ради всего святого… открой!
Дверь, массивная и неподатливая, дрогнула, содрогнулась от мощного удара плечом, но древний замок, верный страж, выстоял. И тогда Арвид поднялся. Движение было лишено всякого смысла, всякой воли, оно было чистой механикой, отлаженным жестом – он откинул засов.
В мастерскую не вошел, а ввалился, рухнул на порог сбившийся с ног человек. Юноша, практически отрок, одетый в окровавленное рванье, от которого несло едким запахом пота, свежей крови и слепого, мучительного страха. Глаза, широко распахнутые, дикие, метались по углам, не видя хозяина, выискивая лишь лазейку, щель, темноту, где можно было бы укрыться от неумолимого преследования.
– Закрой… быстро… – выдохнул он, захлебываясь, прижимая к груди изувеченную, истекающую алым руку. – Копы… на хвосте…
И в подтверждение этих слов, в дверь, снаружи, ударил тяжёлый, властный стук приклада. Дерево, прочное и старое, жалобно взвыло, но натиск выдержало.
– Откройте! Полиция! По закону имеем право на взлом и обыск! В районе обнаружен беглый преступник!
Голос за дверью был твёрдым, уверенным в своей неоспоримой силе и таком же праве. В нём звучала вся непоколебимая мощь системы, закона, порядка.
Парень отпрянул от грохочущей двери, прижался к каменной стене, всем своим существом пытаясь в неё влиться, раствориться, стать невидимым. Дыхание участилось, стало поверхностным и прерывистым – верный предвестник надвигающейся, неистовой паники. И в этом дыхании был весь ужас живого существа, загнанного в угол.
– Спрячь меня… Не сдамся… Ни за что… – прошипел он, и взор, устремлённый на Арвида, был полон смиренной, животной мольбы. – Не за себя… за сестру… тот подлец жизнь ей сломал… я лишь… уравнял счёт… а они… они ведь не будут разбираться…
В глазах его читался не страх перед карой, но нечто большее – первобытный ужас перед несправедливостью, перед слепой и бездушной машиной закона, что готова была раздавить, не внемля ни слову, ни разуму. Это был взгляд загнанного зверя, для которого верная смерть в бою милее и честнее, чем рабская жизнь в железной клетке.
Стук повторился – ещё более громкий, требовательный и неумолимый.
– Последнее предупреждение! Ломаем!
Арвид смотрел на беглеца. Бездонное ничто внутри, казалось, не дрогнуло. Не шевельнулось в нём ни искры сочувствия, ни тени страха. Но система, выверенная до микрона, отлаженная, как безупречный хронометр, в этот миг дала внезапный, непредусмотренный сбой. Это был сценарий, которого не существовало в его логических схемах. И всё же некий глубинный, дремлющий алгоритм сработал: он гласил, что есть страдание – требуется Пауза. Его собственный, мёртвый, алгоритм, последний обрубок когда-то существовавшей программы.
Молча, даже не удостоив взглядом дверь, за которой бушевала гроза закона, он развернулся и машинально переставляя ноги, пошёл к лестнице, что вела в сырой подвал. Парень, не понимая, но видя в этом жесте единственную, последнюю соломинку спасения, ринулся за ним как утопающий, что хватается за призрачную ветвь. И в этот раз Арвид не остановил просителя. Безразличие было тотальным, безмерным, оно стало его сутью и щитом.
Спуск. Глухие каменные ступени, поглощающие шаги. Воздух, густой от холода и вековой пыли. И Хронометр. Сияние его в подвальной тьме казалось теперь единственным источником света во всём мироздании, одинокой звездой в абсолютной пустоте.
Прикосновение к рычагу. Ожог, пронзающий плоть морозным током. Давление. Боль. Всё это было привычным, почти сакральным ритуалом, набором сигналов, давно утративших какой-либо смысл. И затем – волевое усилие. Последний, финальный остаток сбоившей программы, последний вздох механизма, имитирующего жизнь.
Щелчок.
Безмолвие.
Провал. Растворение.
Ночь встретила резким, обжигающим холодом, сменив спёртый, застоявшийся воздух подвала. Они стояли в узком проеме, залитом густыми тенями, на выходе из всё той же мастерской, что казалась теперь лишь декорацией к разыгравшейся человеческой драме. И сама постановка эта застыла во внезапном, непостижимом безвременье.
Двое стражей в униформе, эти земные воплощения неумолимой карающей силы, замерли в самых что ни на есть динамичных, агрессивных позах. Один, могучий, как монолит, занёс тяжёлый приклад для нового, сокрушительного удара по непокорной двери; мышцы на руке взбухли от напряжения, застыв в миг наивысшего усилия. Второй – вознесший руку с дубинкой, готовой обрушиться на плоть и кости коротким, профессиональным замахом. Лица, окаменев, сохранили гримасу служебного рвения, слепого и беспощадного, смешанного с предвкушением скорой и лёгкой победы, ареста, подчинения.
Парень стоял, вжавшись спиной в шершавую, каменную стену, глаза были плотно сомкнуты в ожидании неминуемого удара, всё его тело сковала маска животного, парализующего ужаса, отчаяния обречённого существа.
Арвид, бесстрастный регистратор событий, наблюдал. Взор, лишённый всякой эмоции, видел, как беглец, преодолевая неповоротливую, густую вязь остановившегося времени, медленно, с неимоверным усилием, поднимает тяжёлые веки. Видит он эти две застывшие статуи насилия, эти монументы власти, внезапно лишённые своей грозной силы. И на лице, ещё секунду назад искажённом страхом, происходит медленная, мучительная метаморфоза: паника, отступая, обнажает чистое, детское изумление, а за ним прорастает дикая, невероятная, ослепительная надежда, бьющая в жилы горячим ключом.
Он отталкивается от стены, пробуждаясь от тяжкого сна, делает первый неуверенный, крадущийся шаг, затем другой. И вот он уже обходит эти грозные, но внезапно безвредные изваяния, движения наливаются уверенностью, робкая поступь превращается в торжествующее, хоть и беззвучное, шествие. Он не просто убегает – он медленно, с нечеловеческой осторожностью, просачивается сквозь строй призраков, проходит в сантиметрах от занесённой дубинки, от оскала застывшего гнева, и растворяется в спасительном теле ночи, поглощаемый тёмной утробой переулка, унося с собой хрупкий дар непредвиденного спасения.