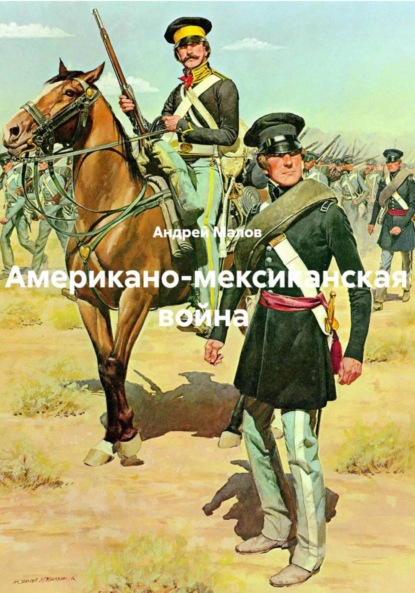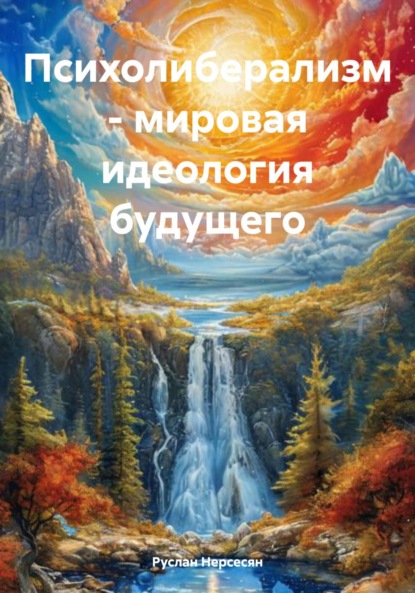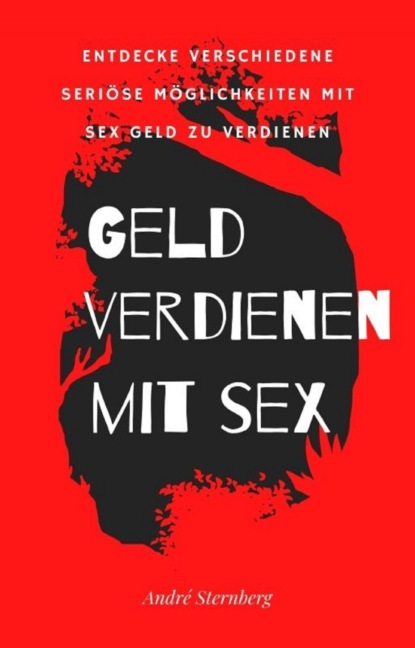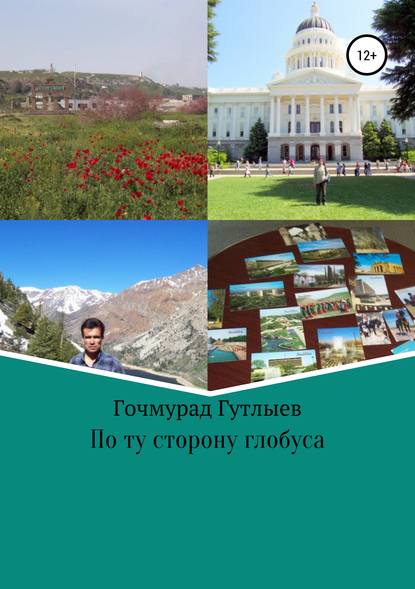- -
- 100%
- +

Предисловие
Что приходит на ум современному отечественному читателю при упоминании Соединенных Штатов Америки и Мексики? Вероятно, он сразу представит могущественную мировую державу, чье влияние простирается далеко за пределы Западного полушария, с одной стороны, и довольно крупную и развитую, но сугубо второстепенную страну, страдающую из-за постоянных внутренних проблем, с другой. Когда мы слышим новости о США, речь, как правило, идет о событиях, имеющих огромное значение для всего мира. Разумеется, иногда до нас доходит информация и о сугубо внутриамериканских делах, но и они зачастую также имеют серьезное значение для международной политики. Новости из Мексики появляются гораздо реже и, как правило, связаны с криминалом, например, с бесконечной войной наркокартелей, или же с культурой и спортом. Такое положение вещей кажется абсолютно естественным и обычно не вызывает никакого удивления. Мексика рассматривается как младший брат США, полностью следующий в фарватере американской политики. Если между странами и возникают какие-то разногласия, то обычно они связаны с проблемами нелегальной миграции или наркотрафика и, в целом, пусть и не без эксцессов, но вполне успешно решаются. Однако это только на первый взгляд.
Более чем полтора века назад между двумя североамериканскими республиками разгорелась война, которая имела огромное значение для всей их дальнейшей истории. Эта война была поистине уникальной во многих отношениях. Впервые США выступили как однозначный агрессор. Впервые война велась полностью на вражеской территории. Впервые она окончилась для американцев огромными территориальными приобретениями. Приобретениями, которые на поверку оказались отравленными и спустя каких-то 15 лет чуть не погубили страну, расколов ее надвое и едва не уничтожив «Великий американский эксперимент», начатый Отцами-основателями.
Последствия этого конфликта для Мексики были еще более серьезными – наследница некогда блистательной испанской колониальной империи потеряла половину своих земель и оказалась в поистине чудовищной финансовой яме, а через некоторое время стала мишенью для очередной иностранной интервенции, на этот раз французской. Только после долгих лет кровавой борьбы и окончательного изгнания европейских оккупантов страна смогла насладиться миром и относительной стабильностью. И если в массовом сознании американцев эта война во многом стерлась из памяти из-за последовавшей за ней кровавой междоусобицы, то вот к югу от границы воспоминания о ней живы и по сей день. Горечь из-за больших людских потерь и утраченных территорий по-прежнему не забыта и остается незаживающей национальной травмой, влияющей и на сегодняшнюю жизнь этой страны. Да и отношение обычных мексиканцев к своим северным соседям далеко не однозначное – несмотря на тесные экономические, политические и культурные связи, есть немало людей, которые отнюдь не рады видеть туристов и бизнесменов-гринго на своей земле.
С другой стороны, юг и юго-запад США в последние годы стали местом притяжения большого количества мексиканских мигрантов, которые приносят с собой свой язык, свою культуру, религию и образ жизни. Пытаясь сбежать от нестабильной криминогенной обстановки в приграничных мексиканских штатах и надеясь воспользоваться широкими возможностями, которые предоставляет Америка, они, тем не менее, не теряют связи со своими соотечественниками, оставшимися на родине. Все это не может не настораживать консервативно настроенные американские круги, которые пытаются остановить этот бесконечный людской поток. Некоторые из них, особенно те, кто хорошо знают историю своей страны, вспоминают, что в середине XIX века именно миграция и стала одной из причин, по которой между соседями по континенту и разгорелась война (правда, тогда эта миграция имела абсолютно противоположное направление). Особо радикальные ура-патриоты, размахивая флагами, даже выступают с воинственными лозунгами в духе «помни Аламо» и «можем повторить».
Несмотря на то, что такие нелепые призывы являются уделом маргинального меньшинства, и в серьезном американском историческом сообществе наблюдается определенное возрождение интереса к этой, во многом незаслуженно забытой теме. Однако и по сей день количество работ по Американо-мексиканской войне минимально, особенно по сравнению с совершенно исполинским объемом изданий, посвященных Гражданской войне, Американской революции и войнам США в XX веке. Что касается нашей страны, то этот конфликт вообще не получил никакого освещения, даже среди признанных экспертов в области ранней американской истории. Кроме небольших статей и очерков в специализированных изданиях, у нас по этой теме не выходило практически ничего.
Данная работа и призвана восполнить этот пробел. Некоторые читатели могут задаться вопросом – а зачем нам вообще изучать историю этого конфликта? Неужели в то время не происходило ничего более важного для истории нашей страны? И правда, 40-е годы XIX века – это эпоха колоссальных преобразований в европейских странах, когда старый порядок, основанный на положениях Венского конгресса, начал рушиться и когда привычные феодальные порядки стали трещать под натиском национально-освободительных сил и прогрессивных движений, что в конечном итоге вылилось в грандиозные волнения, известные как Весна народов 1848-49 гг. Эти события напрямую затронули и Российскую империю, которая непосредственном образом участвовала в военных действиях, развернувшихся в Центральной Европе. Казалось бы, какое нам дело до небольшой региональной войнушки, которая примерно в то же время имела место по ту сторону земного шара?
А дело тут отнюдь не в весьма скромных масштабах Американо-мексиканской войны, а в том, какое значение она имела для дальнейшей судьбы Соединенных Штатов. Именно она окончательно подтолкнула Америку к пропасти под названием Гражданская война. Противоречия, которые годами копились в американском обществе, с окончанием мексиканской кампании, наконец, вылезли наружу и в конечном счете сделали неизбежным вооруженный конфликт между промышленным Севером и рабовладельческим Югом. А ведь именно Гражданская война – это определяющее событие в истории США, именно она сделала эту страну такой, какая она есть сейчас. Понимание американской истории, осознание тех исторических предпосылок, что сформировали современные Штаты – необходимое условие для выстраивания с ними отношений как сегодня, так и в будущем. То же, впрочем, относится и к Мексике, которая в перспективе может оказаться очень важным торговым и экономическим партнером нашей страны в Западном полушарии. И я очень надеюсь, что данная работа, помимо всего прочего, познакомит читателей с политическими, культурными и военными традициями этих стран и приблизит нас к пониманию тех процессов, что происходят там в настоящее время. В конце концов, агрессивная внешняя политика США и проблемы Мексики с организованной преступностью появились явно не вчера и своими корнями уходят как раз в начало-середину XIX века, в чем читатели и смогут в дальнейшем убедиться.
Я также полагаю, что данное исследование окажется небезынтересным и для любителей военной истории, ведь эта война была последней, в которой армии сражались «по старинке», в полном соответствии со стратегическими и тактическими доктринами Наполеоновской эпохи. Она стала лебединой песней гладкоствольного огнестрельного оружия, которое еще позволяло осуществлять лобовые атаки в сомкнутом строю и брать укрепленные позиции решительным штыковым ударом. Изобретение пули Минье в 1846 году уже совсем скоро приведет к массовому распространению нарезных ружей, что коренным образом изменит тактику пехотного боя и, в конце концов, завершит блистательную эпоху Наполеона, Кутузова и Веллингтона. В ходе этой работы мы подробно рассмотрим все мало-мальски крупные сражения этой войны и узнаем, что же представляли из себя североамериканские армии той эпохи. Следует признать, масштаб этих битв был крайне скромным, особенно если сравнивать их с чудовищными мясорубками времен Гражданской войны. Тем удивительнее наблюдать, как небольшие стычки отрядов буквально в пару тысяч человек, а иногда и того меньше, решали судьбу поистине исполинских территорий.
Разумеется, рассматривая данный конфликт, мы просто обязаны будем рассмотреть и его крайне любопытную предысторию. В первую очередь, речь, конечно же, идет о Войне за независимость Техаса, которой в данной книге будет уделено довольно много внимания. Техас занимает уникальное место среди остальных американских штатов, ведь он был единственным, вошедшим в состав Союза как независимое государство. И по сей день техасцы гордятся своей особенной историей и культурой, которая, по сути, и родилась на свет в те бурные времена, а такие названия как Аламо, Голиад и Сан-Хасинто значат для них не меньше, чем Банкер-Хилл и Йорктаун для остальных американцев.
Ну а начнем мы с еще более отдаленных по времени событий, ведь чтобы в полной мере понять причины и предпосылки этого конфликта, нам необходимо будет посмотреть, что же представляла из себя американская республика в начале XIX века, и какие глубокие внутренние противоречия скрывались за внешним фасадом спокойствия и благополучия. Итак, наше путешествие в Северную Америку XIX века начинается!
Глава 1. США в начале XIX века
Первые годы жизниНачиная наш рассказ об истории Америки XIX века, просто необходимо хотя бы в самых общих чертах обрисовать, откуда же появились сами Соединённые Штаты и какие общественно-политические процессы происходили в стране на заре её существования.
В начале XIX века США были еще очень молодой страной. В 1776 году 13 британских североамериканских колоний, недовольные новыми налогами и отсутствием представительства в парламенте, восстали против своей метрополии. В результате долгой семилетней борьбы и, не в последнюю очередь, благодаря помощи от Франции и Испании, мятежным штатам удалось одержать громкую победу и объявить всему миру о своей независимости.
Теперь перед новорожденной республикой со всей серьезностью встал вопрос о том, как жить дальше. Ещё в ходе войны в 1777 году были приняты так называемые Статьи Конфедерации – первый конституционный документ в истории страны. Согласно статьям, центр решал вопросы войны и мира, дипломатии, западных территорий, денежного обращения и государственных займов, в то время как все остальные вопросы отдавались на откуп органам власти самих штатов. В результате федеральное правительство было крайне слабым и не могло решать серьезные задачи, стоявшие перед страной, особенно в части сбора налогов и национальной обороны. Всем здравомыслящим представителям политических элит было ясно, что необходимо создать более эффективный госаппарат и четко обозначить полномочия центрального правительства. В итоге в 1787 году после весьма бурных обсуждений был принят документ, который до сих пор является основополагающим законом, регулирующим политическую и общественную жизнь страны – Конституция Соединенных Штатов Америки.
В ее разработке принимали участие самые выдающиеся государственные деятели и мыслители своего времени – Джеймс Мэдисон, Джон Джей, Александр Гамильтон и другие. Последний предлагал максимально расширить полномочия федерального правительства, ограничить власть штатов и ввести протекционистские тарифы с целью стимулировать производство отечественных товаров. Соответственно, возглавляемое им политические движение вскоре получит название партии федералистов, которая представляла, прежде всего, интересы бизнеса и зарождавшегося промышленно-финансового капитала и имела поддержку в основном на северо-востоке страны – в Новой Англии. Нетрудно догадаться, что их противники желали для страны ровно противоположного – ограничения президентской власти (которую они сравнивали с властью ненавистного британского монарха), широких полномочий отдельных штатов и открытой торговли. Возглавлял это движение (названное, соответственно, антифедералистским) Томас Джефферсон, главный творец Декларации независимости и один из самых популярных политиков США на заре их существования. Основной базой движения стали южные штаты, плантационный характер хозяйства которых болезненно реагировал на любые ограничения свободы торговли и давление со стороны федерального центра. Впоследствии из этого течения родится демократическо-республиканская партия, дальний предок современной Демпартии.
Тем не менее, несмотря на эти противоречия (которые впоследствии станут базисом векового противостояния Севера и Юга), сторонам удалось договориться и принять компромиссный вариант Конституции. Это стало возможным, прежде всего, благодаря позиции отца нации Джорджа Вашингтона, пользовавшегося непререкаемым авторитетом среди всех политических сил страны. Именно его поддержка так называемой Вирджинской редакции Конституции обеспечила в конце концов ее принятие, пусть и не сразу и не всеми штатами. Ее сутью было создание системы федеральных органов, которые обладали значительными полномочиями, но при этом за пределами этих полномочий права штатов оставались прежними. Власть президента ограничивалась двухпалатным парламентом, в верхней палате которого – Сенате – заседало равное количество делегатов от всех штатов (по два человека), а в нижней – Палате представителей – места распределялись пропорционально количеству избирателей в каждом округе. Судебную ветвь власти представлял Верховный Суд, который получил право оценивать соответствие законов положениям Конституции. К слову, подобная система власти сохраняется в стране и по сей день.
Ни для кого не стало сюрпризом, что в 1789 году первым президентом США был избран Вашингтон, при правлении которого политические разногласия на время поутихли – Отец нации безоговорочно поддержал Конституцию, и возражать столь авторитетной персоне никто не смел. Страна получила возможность сосредоточиться на внутреннем развитии, и прежде всего, на экспансии в западном направлении. Сразу после окончания Войны за независимость поток переселенцев хлынул за горы Аппалачи, и в результате в самое короткое время на карте США появились новые штаты: Кентукки, Теннесси и Огайо.
Сам Вашингтон не принадлежал ни к одной из политических партий. Более того, он считал, что само их наличие может оказаться губительным для государства. Тем не менее, в целом он поддерживал курс федералистов на укрепление центрального правительства и считался среди них отцом не только страны, но и этого политического течения. Вместе с тем, имея во время своего правления абсолютно реальные шансы на узурпацию всей полноты власти, он сумел избежать этого соблазна и выстроил государственную систему таким образом, что она продолжила прекрасно функционировать и без него.
Пожалуй, именно это и спасло молодую республику от серьезных проблем, которые вполне могли бы развалить ее в первые же годы ее существования. В отличие от правителей многих государств Латинской Америки, президент США не стал абсолютным диктатором, при котором весь госаппарат заточен лично под него. С другой стороны, глава государства и не превратился в совершенно номинальную фигуру, выполняющую сугубо церемониальные функции. Он стал олицетворением всей мощи исполнительной власти, имеющей право наложить вето на большинство принимаемых Конгрессом законов. При этом он не мог самолично решать все текущие государственные дела без поддержки законодательного собрания. Таким образом, в стране сложилась система сдержек и противовесов, которая, пусть и не без эксцессов, работает в Штатах до сих пор. Можно справедливо ругать американцев за попытки изобразить из себя главный оплот демократии в мире, но нельзя отрицать, что именно там родилась поистине уникальная конструкция, которая не дает узурпировать власть какой-либо одной силе и одновременно позволяет населению активно участвовать в политической жизни страны. И основная заслуга в этом принадлежит именно первому президенту, во многом благодаря мудрости, прозорливости и скромности которого страна смогла пережить все внутренние потрясения, ожидавшие ее в следующие два с половиной века.

(1) Парадный портрет Джорджа Вашингтона, первого президента США, Гилберт Стюарт
В 1797 году Джордж Вашингтон ушел с поста президента, заложив американскую традицию, согласно которой глава государства не может занимать эту должность более двух раз. Формально это положение нигде не закреплялось, но уважение к главному отцу-основателю было столь огромно, что никто не смел нарушить его аж до середины XX века, когда Франклин Делано Рузвельт будет избран на высший пост четыре раза подряд. Он же, впрочем, останется и единственным, кому это удалось – в 1951 году 22-я поправка к Конституции законодательно ограничила срок правление президента США двумя сроками.
Впервые в истории страны имели место по-настоящему конкурентные выборы, победу на которых одержал Джон Адамс, бывший вице-президент в администрации Вашингтона и основатель известной политической династии. Собственно, именно его тесная связь с отцом нации и позволила ему обойти крайне популярного Джефферсона. Адамс принадлежал к партии федералистов, но при этом, в отличие от того же Гамильтона, его политические взгляды были весьма умеренными. В этом он целиком и полностью поддерживал курс Вашингтона, нацеленный на примирение конкурирующих партий. В целом, ему это удавалось, хотя и не без труда – растущее влияние южных штатов позволило демократическо-республиканской партии постоянно атаковать позиции как федералистов в целом, так и Адамса в частности.
Более того, резко обострилась международная обстановка – в 1798 году из-за разногласий касательно внешнего долга между США и революционной Францией началась так называемая «квазивойна», в ходе которой корабли обеих сторон вели настоящие боевые действия по всему Атлантическому океану. К счастью для американцев, в скором времени во Франции к власти пришел Наполеон, который почел за благо решить вопрос миром. Тем не менее, политика Адамса во время противостояния с французами, а именно, принятие крайне непопулярных Законов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, перечеркнуло все его шансы на переизбрание в 1800 году. В итоге он проиграл своему давнему сопернику Джефферсону и фактически сошел с политической сцены. Однако его дело продолжили его потомки, среди которых особенно выделялись сын Джон Куинси Адамс и внук Чарльз Френсис Адамс. Впрочем, о них речь пойдет в дальнейших главах нашего повествования.


Извечные друзья-соперники Джон Адамс (2) и Томас Джефферсон (3), второй и третий президенты США.
Верный программе своей партии, третий президент снизил налоги, сократил государственные расходы, в том числе на армию и флот, расширил полномочия отдельных штатов и активно поддерживал территориальную экспансию. В этом с ним были полностью солидарны и крупные южные плантаторы – ведь аграрное хозяйство по самой сути своей требует постоянного расширения – вследствие чего они и составили основную электоральную базу демократическо-республиканской партии, заложив основы ее доктрины на долгие годы. Безусловная личная свобода, ограничение власти центрального правительства, низкие налоги, широкие полномочия отдельных штатов, расширение сельхозугодий – все это просто необходимые условия для процветания аграрной экономики Юга. Именно на эти идеалы в дальнейшем будут опираться Мэдисон, Джексон, Полк и другие президенты-демократы, при этом претворяя в жизнь свое видение наследия Джефферсона, которое далеко не всегда совпадало со взглядами самого великого вирджинца.
Но самым выдающимся достижением Джефферсона на посту президента стало, без сомнения, приобретение Французской Луизианы за 15 миллионов долларов. Тогдашнюю Луизиану ни в коем случае не следует путать с современным штатом с таким же названием. Это была поистине исполинская территория размером 2 140 000 квадратных километров, на которой частично или полностью располагаются 15 из 50 современных американских штатов. Давая свое одобрение на эту сделку, самое деятельное участие в которой принял будущий президент и ученик Джефферсона Джеймс Монро, глава государства понимал, что он фактически превышает свои полномочия. По сути, он согласился выделить на нее деньги еще до того, как за это проголосовал Конгресс! Казалось бы, для такого ярого противника усиления центральной власти, как Джефферсон, это было немыслимо, но Мудрец из Монтичелло1[1] понимал, что от этого предприятия, в общем-то, зависит само будущее страны.

(4) Территориальные приращения США к 1810 году
И он оказался прав. Благодаря этому приобретению, Соединенные Штаты увеличили свою территорию практически вдвое, получив в свое распоряжение богатейшие и еще практически никем не освоенные земли. Можно с уверенностью утверждать, что именно Луизианская покупка заложила основы будущего процветания страны на долгие годы. Но, что самое важное, уникальное географическое положение США позволяло им спокойно осваивать свои новые владения – ведь они находились на глубокой периферии тогдашней геополитики, и титанические события в Европе, связанные с Наполеоновскими войнами, вроде бы никак не должны были ее затронуть. Вышло, однако, немного иначе.
Война 1812 годаНа волне популярности демократическо-республиканской партии, к власти в 1809 году приходит друг и соратник Джефферсона Джеймс Мэдисон, с большим преимуществом победивший на выборах федералиста Джеймса Пинкни. Будучи, как и его предшественник, вирджинцем, он представлял свой округ в Континентальном конгрессе в 1780-1783 гг., а в 1787 был направлен в качестве депутата на Конституционный конвент. Именно там к нему и пришла поистине всенародная слава. Мэдисон отлично владел письменной речью и стал автором аж 29 статей в «Записках Федералиста», сборнике, изданном в поддержку ратификации Конституции США. Осознавая необходимость укрепления центральной власти, он горячо поддержал принятие нового основного документа страны, и, более того, внес наибольший вклад в его создание. И по сей день он известен в Америке, в первую очередь, как Отец Конституции. Также они вместе с Джефферсоном сыграли ведущую роль и в принятии первых десяти поправок к основному закону, известных как Билль о правах. Эти поправки устанавливали основные права и свободы граждан, такие как свобода слова, волеизъявления, вероисповедания, право на честный и беспристрастный суд, а также создали эффективный механизм для их реализации.

(5) Джеймс Мэдисон, четвертый президент США
Признавая исключительные заслуги своего товарища, Джефферсон доверил ему важнейшую должность госсекретаря в своем кабинете. Как известно, госсекретарь в правительстве США – это почти полный аналог министра иностранных дел в других странах, только с несколько более широкими полномочиями. И надо отметить, что международная обстановка в начале XIX века была весьма напряженной.
В Европе в это время то затухали, то вновь вспыхивали бесконечные, казалось, войны между революционной, а потом и наполеоновской, Францией и антифранцузской коалицией, в которой первую скрипку неизменно играла Великобритания. Для США это были весьма неприятные новости – мало того, что и французы, и британцы были основными торговыми партнёрами Штатов, так еще и молодая и неокрепшая республика теперь вполне могла оказаться втянутой в этот конфликт помимо своей воли. Поначалу Джефферсон даже смог извлечь из этого положения большую выгоду – чуть выше мы уже рассказали о Луизианской покупке. Однако с началом Войны третьей коалиции ситуация вновь накалилась. Британцы начали конфисковывать американские товары, следовавшие во французские порты, и, что самое неприятное, прибегли к практике несильной вербовки американских моряков, многие из которых были в прошлом поддаными Короны. В свою очередь, французы также периодически наносили ущерб американскому судоходству. В 1807 году Джефферсон и Мэдисон были вынуждены установить эмбарго на всю внешнюю торговлю, чтобы привести воюющие страны в чувство. Впрочем, ожидаемого эффекта эта мера не принесла, и в 1810 году ее пришлось отменить.
Все эти проблемы перешли по наследству к Отцу Конституции, когда в марте того же года он занял президентское кресло. Он попытался было решить дело переговорами с враждующими сторонами, но потерпел неудачу. В то же время британцы, понимая, что их североамериканским владениям угрожает опасность, усилили поддержку индейских племен Северо-Запада во главе с их вождем Текумсе. Индейцы активно противодействовали усилиям американцев освоиться в районе Великих Озер, и такой шаг со стороны англичан был ожидаемо воспринят как откровенно враждебный. В Конгрессе все чаще стали раздаваться голоса, требующие положить конец «тирании» бывшей метрополии. В конце концов, Мэдисон решил, что у него нет выбора, и 1 июня 1812 года объявил Великобритании войну. Это решение чуть было не привело и президента, и возглавляемую им страну к полному краху.