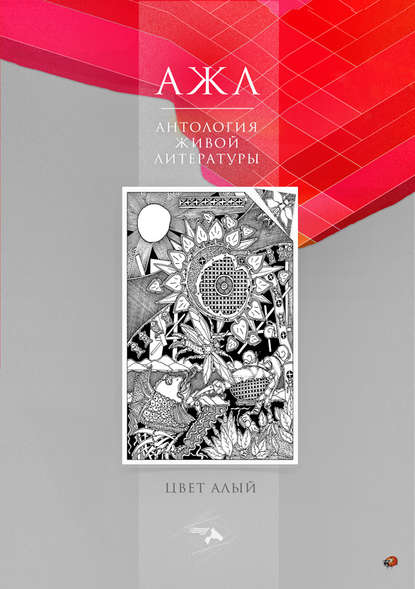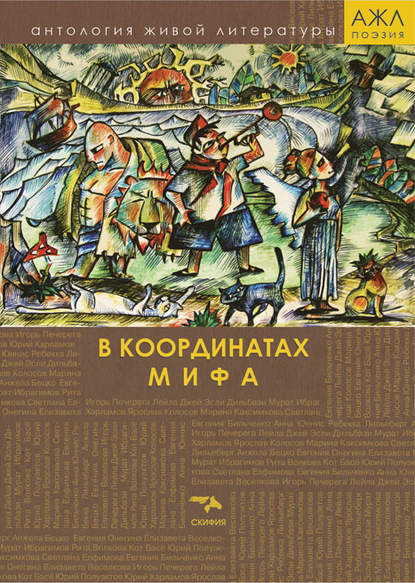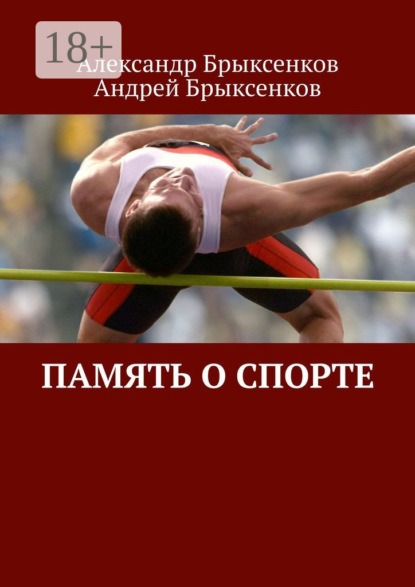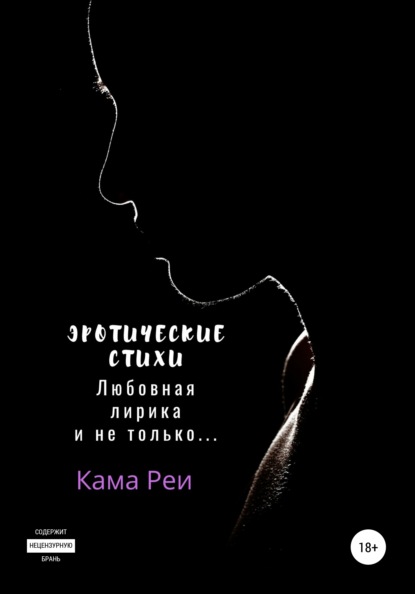Нити взглядов и судеб

- -
- 100%
- +
Пожалуйста, обещай, что ты будешь помнить ее мягкие руки и наши ламповые вечера, что ты не станешь черствой, что бы ни случилось, ты будешь сильной, даже если будет война, ты сохранишь тепло, мне так страшно, я так боюсь, боюсь утраты, боюсь даже самого страха утраты.
Письмо пятое. Два года спустя
Я много путешествую, мне нравится эта иллюзия свободы – так здорово, что за несколько часов ты можешь оказаться на другом краю земли, в совершенно незнакомом месте; мне нравится открываться новому и узнавать, удивляться и удивлять. Я стараюсь наблюдать, напитываясь звуками, запахами, красками, вкусами, прикосновениями, присматриваться не осуждая, изучать не критикуя. Это не всегда получается – иногда я раздражаюсь, сжимая челюсти и скрипя зубами от неискренности, наигранности, отсутствия смысла; иногда мне тяжело и некомфортно в этой непластичности пластикового мира. Я начинаю проникаться любовью к пустым пространствам, минимализму и животным.
Если меня сейчас спросят, какой город мой любимый, я даже не смогу ответить. Я люблю маленькие европейские городки – чистые, со старыми домиками с черепичными крышами, с уютными кафе, в которых играет пластинка с джазовой мелодией, люблю португальские эвкалиптовые рощи, громыхающие трамваи, свежий ветер, неожиданно целующий открытые плечи, треплющий и развевающий из стороны в строну легкую длинную юбку. Я люблю безукоризненную, покоряющую красоту утра в непальском монастыре, с горным прохладным воздухом, ярким солнцем, нежным ароматом жасмина и терпкостью благовоний, сделанных вручную из специй и трав, люблю смотреть, как маленькие монахи играют в футбол и как один удар в гонг собирает всех на первую медитацию.
Я люблю утопающий в зелени Мадрид и прозрачность Женевского озера, божественность римских фресок и парадный загадочный Будапешт. Мировой калейдоскоп, без центра и оси, слой за слоем уносящий в бездонную глубину красок, оттенков, узоров, переливов.
Я помню, как, гуляя по вечернему январскому Антверпену, по узким улочкам, еще пахнувшим шампунем, осторожно заглядывая в окна домов, мимо которых проходила, чуть ли не впервые в жизни я точно поняла, чего бы мне хотелось: я хотела квартирку, маленькую, пусть на окраине города, даже тесную, но свою, со светлыми стенами, милым диванчиком и торшером, квартирку, в которой я могу следить за тем, как распадается день, любуясь приглушенным светом, куда я могу возвращаться, чтобы собирать себя снова и снова.
Письмо шестое. Четыре года спустя
Я не чувствую запахов, совершенно, абсолютно, казалось бы, обоняние – всего лишь один из органов чувств, но без него весь мир воспринимается иначе, все стало тусклым, уныло-однообразным, плоским, даже примитивным. Подумать только, насколько я привязана к ощущениям, как сильно мое благополучие зависит от способности и возможности что-то переживать и проживать! Я чувствую себя уязвимой, незащищенной, но мне не страшно, я доверяю своему телу и знаю, что оно восстановится, я позволяю себе сегодня быть слабой и болезненной, чтобы завтра окрепнуть, чтобы набраться сил.
Вечерами я усаживаюсь на подоконник и не свожу глаз с соседнего дома. Люди смотрят сериалы, а я смотрю на них – странное развлечение, когда нет шанса выйти на улицу. Я точно знаю, когда начнет уплывать солнце, оставляя багровый след среди перистых облаков, мне хочется остановить это мгновение или хотя бы задержать хоть ненамного уходящее солнце. После его захода мне становится тоскливо и даже одиноко, со мной никогда не бывало такого, я всегда любила уединение.
Я очень люблю смотреть на небо, на бело-голубые облака, резные и кудрявые, с завитками и вьющимися краями, такие как рисуют на тханках с изображением бодхисаттв, я никогда не замечала раньше, что в реальности бывают такие облака.
Мне нравится смотреть на верхушки домов и крыши с антеннами и чердаками, все разной высоты, всевозможных цветов, с лестницами и огоньками, трубами и проводами, следить за полетом птиц – они сейчас настоящие хозяева неба, ведь самолеты практически не летают, все сидят по домам. Мне приятно осознавать, что у меня тоже есть свой дом, пристанище, мое убежище, моя маленькая квартирка, которую я могу обойти ровно за одну минуту.
Я много пеку, вдохновенно вымешивая тесто руками, мне нравится ощущать его текстуру, чувствовать, как с каждой минутой оно становится все более податливым, мягким и пластичным, и сейчас это мой рецепт счастья, очень простой, очень бесхитростный.
Как бы я хотела почувствовать сейчас запах горячего свежеиспеченного хлеба, чистых простыней, морской соли, разведенного костра и скошенной травы, бобов тонка и алоэ, мандаринов и корицы, молочного улуна и имбиря! Да что ж греха таить, если честно, даже запаху лука я была бы сейчас безумно рада! Годы медитации, но жажда ощущений по-прежнему преследует меня.
Письмо седьмое. Два года спустя
Дедушка ушел, и мне трудно с этим смириться, я рыдаю и не могу остановиться, у меня никогда не было с ним теплых отношений, он никогда не интересовался моей жизнью и был, откровенно говоря, тем еще тираном, эмоциональным абьюзером, в детстве ставшим свидетелем и жертвой варварства фашистов, захвативших дом, в котором он рос, в Александровке. Но я сожалею о том, что не успела с ним проститься, что я постоянно откладывала встречу на потом, я думала, что у меня есть время, что я еще успею поведать его, я испытываю ненависть и гнев, как будто испещряющие все вокруг, мне невыносимо больно и обидно, потому что дедушка заслуживал того, чтобы уйти достойно, но вместо этого он умирал в больнице, где не было даже физраствора.
Вечерний безучастный город заливается зарей, отражается в мандале Калачакры, расплываясь в двухмерном изображении вселенной, и не поймешь уже никогда, где север, а где юг, где земля, где небо.
Я заглядываю внутрь и нахожу только безразличие к будущему, равнодушие к любым вещам, отсутствие интереса, истощение, отрицание соучастия и причастности, сопротивление любой деятельности и проявленности, неловкость, скованность и отдаленность. Ощущение безысходности: мое когда-то изящное тело становится резким, угловатым, грубым и тяжелым, напружиненным и накаленным.
Я перечитывала письма к себе за прошлые года и не верила: все так очевидно и предсказуемо…
Будь добра к себе. Это совсем не просто сейчас.
Я смотрю вокруг: на расцветающие деревья, игриво щебечущих скворцов, на крохотных утят, послушно следующих за мамой-уткой, на молодую траву, робко, несмело пробивающуюся, прижимаясь к земле, еще недавно примятую снегом, на проплывающие мимо лодки, на колесо обозрения и пестрые неоновые вывески, отражающиеся на поверхности реки, и мне непонятно, как, несмотря на боль и ужас, этот поток никогда не останавливается, не прекращается, лишь закономерно и циклично меняя рисунок, все продолжает двигаться и перерождаться.
Я смотрю на высокие дома, крыши которых утопают в тумане, и отсутствие горизонта кажется мне не безграничностью, а пустотой, нехваткой значимости и полноты, безвыходностью.
Прошу: не навреди ни себе, ни другим, что бы ни случилось!
Мне тесно, мне холодно, слишком сдавленно и плотно.
Проходят слухи о введении военного положения, и я иду в магазин покупать тостер. Даже если не будет свежего хлеба, я смогу его поджарить, он будет хрустящим и вкусным. Я кутаюсь в пушистый флисовый плед и иду заваривать крепкий зеленый чай с розмарином, из тостера выпрыгивает подрумяненный кусочек хлеба, добавляя приятности в мою жизнь, – мое маленькое спасение.
Добавь просторности, расширения, мягкости и теплоты, впусти другого, охвати его своим вниманием, когда будешь готова, со временем. Возвращайся.
Письмо восьмое. Год спустя
Я потеряла Учителя…
Можно ли вообще его потерять? Кажется, он все равно живет и будет жить на страницах книг, в дарованных учениях, в стенах родного монастыря, в умах и памяти учеников. Помню, когда я встретила его впервые, я была поражена: передо мной был человек, который не стремился казаться кем-то, претендовать на что-то, он не надевал маски, в нем не было кривлянья, притворства, спеси, в нем было много простоты, искренности и самоиронии, передо мной было само естество – человек, открытый всем и всему, не обороняющийся и кусающийся, не избегающий и не цепляющийся, а человек, который и есть сострадание, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, невзирая на болезни и на то, что он потерял дом и был вынужден бежать из Тибета. Я смотрела на него, и мне казалось, что я знаю его всю жизнь.
Я не понимаю, где и в чем найти опору, мне кажется, я даже не чувствую твердость земли, я ощущаю пустоту и безнадежность, страх от неопределенности, будто я в открытом океане и волны несут меня в неизвестном направлении; я держусь на поверхности, не тону, но и не могу выбрать путь, не могу плыть, меня несет течением, без конца бросая и швыряя, а я способна лишь барахтаться, стараясь не захлебнуться; я и представить не могу, к какому берегу и когда меня прибьет.
И я взяла из приюта собаку, чтобы заботиться о ком-то другом, чтобы не потерять способность чувствовать; я вспомнила слова моего парикмахера о том, что собака сделала его добрее, я смотрела на пугливое тощее существо с огромными карими глазами, немного дикое, похожее на волчонка, лизавшее мои руки теплым шершавым языком, и не понимала, как за шесть лет никто не захотел стать ее другом. Я не знаю существа более преданного и благодарного, радостного и игривого, чем она. У нее нет породы, и она немая, но она всегда держится с достоинством, кроткая и безропотная, она невероятно искренняя и любопытная, у нее отличная память, а ее большие уши, обращенные вверх, кажется, слышат все; я люблю, когда она приходит ко мне, кладет свою морду на мои колени и, уютно посапывая, засыпает. Она очень робкая и осторожная, понемногу привыкает к новым звукам, запахам и окружению, учится доверять людям, и я вместе с ней.
Мы много гуляем с ней и дурачимся, мне нравится наблюдать за ней, как она удивляется первому снегу, пробует его на вкус, прыгает по сугробам, мы выходим из дома рано-рано, когда все еще спят, а деревья одеты в белые пушистые шапки, город окутан тишиной и только слышен хруст снега под ногами. Она так же, как и я, любит блинчики и ватрушки, лежать на прохладном полу и слушать музыку ветра.
Я хочу, чтобы ты помнила, как это здорово – снова волновать и волноваться. Не будь равнодушной, преображайся и преображай. Чего бы тебе это ни стоило, не теряй сострадание, прошу тебя.
Письмо девятое. Год спустя
Вчера я проснулась от взрыва, даже не сразу понимая, что происходит и что делать, и нужно ли что-то делать, и есть ли время куда-то бежать. Окна тряслись от наступающей ударной волны, я стояла у окна в оцепенении, окостеневшая, не в состоянии пошевелиться. Замирание, с которым сложно совладать, как будто мое тело не слушалось меня, будто я забыла даже, как дышать. Разлетались тысячи осколков, сотни обломков, обрывки слов и чьей-то жизни, чьи-то дома и оберегаемое счастье, чье-то оборвавшееся настоящее, навсегда ставшее прошлым, в одну секунду, в один вдох и одно касание.
В моей голове мелькали и кружили образы: старые маленькие домики декабристов в Чите, гордые молчаливые сопки Гималаев, вековые сосны тайги, бескрайность лесов, величие гор, необъятность полей и лугов, брошенных селений, фигуры и лица родителей.
Нечеловеческий страх, паника и жуткие мысли, нежелание верить в происходящее безумие. Визжали сигнализации, мигали фары, огонь и дым заполняли пространство, окрашивая низкие облака в шафрановый цвет, повсюду едкая, удушливая гарь. Я не находила ничего, на что можно было бы опереться, не понимала, за что можно ухватиться, за что держаться. Я успокаивала напуганную собаку, дрожащую, забившуюся в угол, крепко обнимая ее и прижимая к себе, постепенно обнаруживая собственное тело, и училась заново дышать.
Я вспомнила слова Учителя: «Практика осознанности – это не когда вы осознаете, что видите цветок, воспринимая его цвет и форму, ощущаете, как ступни касаются поверхности земли, а когда вы осознаете, что все это происходит из вашего же ума. У ума нет пределов, а где нет пределов, там нет и страха».
Сейчас я отпускаю все, возвращаюсь к безграничности и пребываю в отсутствии опоры, здесь нет ни избегания, ни разделения, ни противопоставления, здесь нет ни врагов, ни единомышленников, здесь нет ни своих, ни чужих, я позволяю себе бояться, я позволяю себе любить, и здесь возникает равновесие и, оказывается, среди чудовищного хаоса даже можно обнаружить покой, где-то в своих теплых ладонях, сложенных в мудру сосредоточения; в этой точке могут рождаться мягкость и сила, из этого может пробуждаться устойчивость где-то внутри меня, произрастая из памятования о метта сутте.
Здесь я остаюсь без грима и вуали, совершенно безликая, я расправляюсь, открываясь, наполняясь принятием и нежностью, бережностью, ясностью и светом, возникающими из пустоты и в пустоту же уходящими, на мгновение освещающими скользкую разбитую дорогу, на мгновение согревающими, словно поддерживая жизнь; я аккуратно несу это хрупкое тепло, заботливо оберегая, но готовясь каждый день обратиться в пыль.
Я выметаю боль и злость, выскребаю гнев и обиду, ненависть и отчаяние не потому, что это правильно и меня когда-то этому учили, не потому, что об этом пишут в книгах, а потому, что только это дает мне ресурс и силы, и другого пути, кажется, нет.
Последнее письмо. Год спустя
Мне пришло письмо в знакомом конверте. Я открыла его и начала читать, но не сразу поняла, что читаю совсем не свое письмо, – вероятно, произошла ошибка и мне пришло письмо однофамильца, который так же, как и я, писал письма себе в будущее.
Этот человек показался мне таким близким – это удивительно, я никогда не видела его, не слышала его голоса, я ничего не знаю о нем, кроме того, что было в этом письме. Оно рассказывало о его утрате и тревоге, о его поисках настоящего, одиночестве и разлуке с детьми, о том, как важно продолжать делать то, что ты можешь, даже если иногда опускаются руки, не быть равнодушным, о том, как важно дать себе время пережить травму, о том, как важно проявлять чуткость и внимательность и к другим, и к самим себе.
Письмо уводило меня в воспоминания о его молодости, когда он только познакомился со своей будущей женой, как он пересиливал свои страх и трепет, чтобы подойти к ней, он говорил себе, что второго шанса не будет и если он сейчас не соберется, то, возможно, будет жалеть об этом всю свою жизнь. Он не представлял, как бы сложилась его судьба, если бы одним осенним вечером он бы не пришел на старинную королевскую площадь, следуя за звуками арфы, и не преодолел свое волнение. Они пережили расставание, предательство, потерю ребенка, но он благодарил себя за короткие письма, которые писал будущему себе, письма – напоминания о значимом, о главном, о том, что для него было дорогим, письма-инструкции, письма-наставления, письма-молитвы.
Письма, возвращающие к себе, к своим мечтам, письма как путь домой, письма, стирающие временную грань, письма, через которые прошлое вновь становится настоящим, письма, дающие путнику надежду.
Я читала и не могла сдержать слез – это письмо тронуло меня до глубины души.
Я думала: у кого же мое письмо, может, оно попало ему в руки, может быть, где-то затерялось, я узнаю об этом завтра, но, кажется, я уже вспомнила все, о чем писала год назад.
И что же рассказать обо мне?
Я по-прежнему люблю тишину субботнего утра, хрупкость первого снега, запах старых пыльных книг и послеобеденное солнце, я по-прежнему люблю танцевать, только когда никто не видит, с закрытыми глазами, двигаясь по наитию, причудливо кружась, оставляя неловкость и печаль где-то меж пальцев ног, у кистей рук.
И иногда мне хочется просто идти куда-то без остановки, ни о чем не думая, растворяясь в сегодняшнем дне, в лицах случайных прохожих, наполняясь цельностью и единством.
Что ж, иди, пилигрим, явившийся невесть откуда, без дома, без удела, брошенный и совершенно свободный. Иди по неизведанной дороге, вперед, по безызвестной тропе, ступай без сожаления, без оплакивания, каждый город – твое прибежище, каждый город теперь – твой дом.
Марина Марея

Родилась в семье полярников на берегу Чукотского моря. В заброшенной ныне обсерватории поселка Мыс Шмидта прошли детство и юность, после чего семья вернулась в Москву. Неудачный опыт журналистской работы в системе советских многотиражных газет, воспитателя детского сада и незавершенные попытки филологического образования, опыт работы дворником, ночным сторожем, поваром в геологических экспедициях привели Марину в конце концов в медицину, где она, получив фельдшерско-акушерский диплом, занималась родовспоможением, терапией родовых травм и семейной поддержкой, сочетая традиционный опыт с современными медицинскими практиками. Также вела школу материнства в Марфо-Мариинской обители и преподавала акушерство сестрам милосердия.
Из интервью с автором:– Стихи всерьез начала писать поздно, лет в двадцать, когда друзья убедили меня, что «не боги горшки обжигают», когда выпало счастье консультироваться у Николая Константиновича Старшинова, работавшего с молодыми поэтами при издательстве «Молодая гвардия»… Потом девяностые годы и длительный перерыв на материнство и выживание… И новый импульс случился с осмыслением накопленного человеческого и профессионального опыта, тогда же возник особенный интерес к психологии. Все это и определило тематику и содержание моего поиска.
© Марея М., 2025
о майе
нынче было холодно: май ее оплакивал,майю ненаглядную, ласточку свою —легкая, пернатая, ох замысловатая,выстригла, проказница, в небе колею,выскользнула, ловкая, сущею плутовкоюсквозь прореху – в невидаль – поминай ее,хоть травой заращивай, хоть тянись из кащенки,а хоть деревянным зарастай корьемзатянуло пленкою, поползло зеленкою,слизистою жалью, курьей слепотойнапрягалось жилисто – кабы не спружинила,силой удержи ее, кабы вслед за тойиз былья не прыгнула, вон как брови выгнула,руки-то на что тебе – веки заслони,а не то останешься вовсе без пристанища,у избы да кладбища добирая днипятнышком на солнышке, бомжиком-воробышком,ты покуда тот еще серый воробей…или уже выпусти, много ли в ней сытости,больно лишь по первости, а потом бодрей —птица или курица, стоит лишь зажмуритьсяи пойти по улице вдоль по мостовой……хочешь ли – с насеста с дурочкой-невестойв пусто свято место, в боже-боже-мойкукушкино одеяло
месяц май как будто одеяло весь насквозь кукушка простегала долгой строчкой, меленьким стежком обошла черемухою белой дом, в котором жизнь переболела сотню лет, а после умерла… алой лентой угол заплетала, чтобы по исподу одеяла выкропились памятью тепла милые следы другого края,где уже никто неумираем, где еще и вечность не прошла… ах, кукушка, натрудила брюшко, источила клювик о труды век верблюжий в узенькое ушко уводить стежками от беды беспамятстваМышь моя
Мышь моя, мышца дрожащая жизни,чем защитить тебя в поле просторномот воровского ее, вороно́го, во́роноваи какого иного хищного взора,позора без тризны, мора, растраты по уговоруодностороннему, черные норычьи в меня дышат родимыми пораминезащищенного ужаса ближнего:жизнь, я – страдание, слышишь ли, слышишь?Сколько б брони ни надела на тело,в скольких защитах бы ни преуспела,страшно мое одинокое дело,дело войны с тобой за переделыбедной моей обескровленной ниши…нищее, злое и гордое делоперед Всевышним, которого мышца —ты, моя жизнь, – оттого и не слышишьвопля больного моей ущемленнойгрыжи пупочной под страхом облыжным……я оттого ли не слышу, не вижупесни твоей и красы огнедыщащей:осени тронутый тленом молебенрыжего вальса скольженья затихшие —вот он кругами уходит – из жизни?видимости? отраженья? – не вижусмысла узора без вечных повторов —в них затоскую вдруг скукой горчишнойи тереблю чудеса от Всевышнего,милости скорые жизни, котораянет, не желает быть мышцею мышиИнгрет
Я не знаю смерти прекраснее,чем сипуха по имени Ингрет —бесшумная и стремительная,она убивает прежде,чем бывает замечена:у мыши ведь нет предчувствия —лишь полнота жизни,которая перетекаетиз живота в живот.Ингрет, как долго ты делаешь вид,что не видишь в упор,как упорно смотрюсь яв твое черное зеркало.Терменвокс, инструмент воздуха
…а этот старый воздух, населенныйдрожащими слоями всех эпох,в меня влюбленных…как неплохоон научился чувствовать меняв игольчатых огнях чертополоха,блужданиях болотного огня,желая земляного вздоха через меня…и уносил прозрачной тишиноймеж кронами косматых изветвленийеще вчера…сегодня надо мнойсклонились вечера твоих молений —и оглашается волной,вновь затевается игра…какой ценой,чего нам это стоит, милый,не разоряя улей силы,его растить в воздушных жилахи у себявсё из всего
все, что приходит в свет, растет из всего,и даже, наверное, я – подумать только! —в оспинах памяти вся, изъедена нежной молью,распяленная в паутине гостья хозяина моего…помнит ли он, кем я ему прихожусь,мой опыт густ – и как же возьмусьсказку сказать ему про курочку рябу,яичко ее золотое… а надо бнаговорить ему колыбельную грустибез задней мысли о выгоде, что отпустит —а от избытка просто… еще потому:тянутся сквозь меня нити в его дому
гаммельн журнальный
…в огне не горит и в воде не тонет —флора гламура всплывает из горла урны —вот уже красоты золотые клоныглаз мой напяливают ноябрьский хмурыйнекуда деться дню от послепотопной хмари:«все уже было, и все, что потом здесь будет,все уже было тоже» – и саксофон в ударе,аморфофаллус свингуя со скользким груздем,непотопляемые выдыхает блюзы…кушайте студень, на сладкое будете пудинг,лайкни лолиту лемпика и круче – от гуччи – лилит…щеки пружинят в желании обоюдном —пока саксофон играет,гаммельн не тонет, не умирает, не спит…ночью крысули страницы журналов точатв стружках роскошных ваяют кварталы бри —к ним ускользают журналы в колодцы сточные,и раскрываются пробниками изнутри —гаммельн в огне не горит и в воде не тонет —все из помета / на крысолова смотри /с дудочками, многоочиты, бонтонны,слушают верхнего гаммельна саксофоны,аранжируя кнопочками попурривпрочем, потопа не будет на оба дома —зима наступит на гаммельн, и встанут воды,дети вернутся переселеньем народов,снегом на голову в улицы, вроде знакомые —все, как всегда, образуется в роды и роды:гам мелет мельник на гаммы оды,детская память в гаммельне входит в модуСтарик и Рыба
Он не мог больше разговаривать с рыбой – уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль: «Полрыбы, позвал он ее, бывшая рыба, мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих.
Э. Хемингуэй «Старик и море»Ты плыл ко мне, обветренный Старик,я для тебя сияла как родник,отчаяний твоих целебный сгусток,которым ты влеком был и храним,Старик Сантьяго, знающий, что с нимне властна над тобой и пасть дентусо…сквозь время и небесные огнитечений встречных мы искали русла —пересеклись, – и я твоих сардиннаживку проглотила безыскусно…на пограничной линии глубиннас настигало основное чувство…нанизаны на лесу бечевы, в погоне сил,где ты меня добыл, в сплетенье жил…с ладоней кровь свою ко мне пролил,измученный Старик – и рыбий крикглотала я в силках твоей любви,разорванной губой ее хватала пыл…Старик, ты помнишь, как меня молил:иди ко мне, марлин моя, умрив моих руках до будущей зари —и буду знать, что жил я не напрасно, —и я взошла – ты видел, как прекрасна,как велика перед тобой, и разветы стал со мною вровень? стал велик?ты отпустил любовь свою, Старик,в глубины силовые океана?Нам обоюдоострой стала рана —но я не потопила, береглатвоей свободы горькой берега,твоих пространств сияющие станы…и ты всадил в меня гарпун, Старик,ударом мощным в сердце мне проник —и я в тебе теперь не перестану.Старик, как будто собственные раны,меня скормивший рыщущим галано,ты погребен со мной с тех пор, Старик,как мой хребет в пучине утром рано…и ты молчишь ко мне все глубже, глуше —и рыба ли молчание нарушит.Чудо Георгия о змие
…там, где клады свои зарывала,ты пойдешь на Ивана Купала —древом папоротника рыща,закружишь по моим костровищам,наклоняясь к угольям алым,что цветущими оставлялав лепестках, волосках, тычинках —по суглинкам ушла, по суглинкам…слышишь-ь-ь-ь…этот, смыкая ниши,всползает все выше —чует меня, ищет…по коленам царевна со змием срослась —тонкой струйкой раздвоенной кровная вязьопустилась, – и вновь поднялась его властьот подножия ужаса – слышишь-ь-ь-ь…Не вонзись, не коснись —только приподнимись, —лишь покажется, будто бы вниз сорвалиськопьеносные тени победы-беды —по полынным полям, пустырям лебеды,ты проследуешь отрока тише./ ибо было известно: вогнавший копье,пронзен пуповиной неслыханной тяги,качая в венозное сердце своегустую возвратную брагу отваги,помноженный заживо на воронье,на оборотные передряги,словно корягу, меня самоеобарывая в овраге……скитайся, герой, меж горой и дыройот битвы до битвы врастая норойв подкорковый слой, где убоины ройглядит в тридцать три малахитовых сразу,один из которых, какой ни закрой,в тебе различает узор круговойсглаза… /…двоится царевна, как змиев язык,поет: навсегда твоей раною стану —искать позову по кочующим станам,по кольцам времен, их шершавым мембранам,проросшие злаки улик…и как же иначе поднимется сок,меж мной и тобой зацветет на часокзаветный цветок-уголек,пока стережет меня змиева мощь —и как же иначе ее превозмочь,когда проросли из единых концови пояс царевнин, и полоз отцов —и тех не разымешь рубцов…Но отрока тише придешь и уйдешь —уймется в коленах бессильная дрожь…Бескровный Георгий, сияющий князь,царевна-вирга в землю не пролилась —по тучным хребтам выше уровня глазуходит себе восвояси…