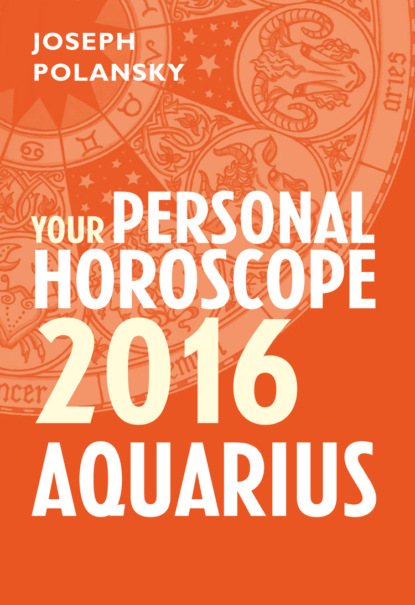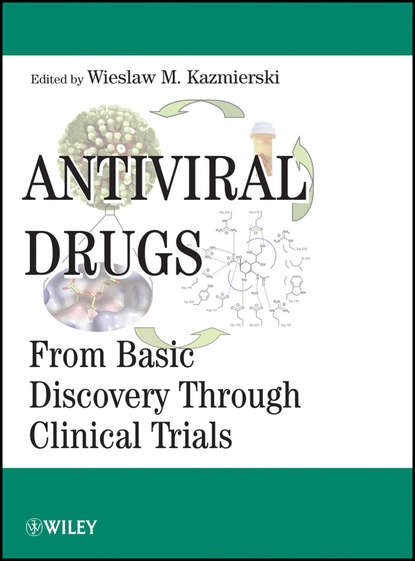- -
- 100%
- +
– Смотри, – сказал он, не поднимая глаз. – Поток по узлу «Soteria-Василеостровский». Вчера с 19:40 до 19:52 произошло семь инцидентов. Наш третий. Первые два мелкие: «поддержка при эвакуации», «передача инсулина». Третий «эвакуация при техногенной аварии». Дальше фотодокументирование последствий и два интервью героя. Всё упаковано в один кластер. Это как вагончики, скрепленные одной сцепкой.
– Кто сцепщик?
– Координатор фонда. И пиарщик Soteria. – Лев почесал щеку, оставив на коже валик. – Я не люблю, когда пиар стоит рядом с первичкой. Это как если бы врач с операционной ходил тут же с пресс-секретарём и показывал, как он режет.
– Это и есть новый век, – сказала Марина. – Мир не разделяет уже руки и языки.
Лев щёлкнул ещё раз.
– И самое интересное, – сказал он тихо, – вот: поле «исполнитель». Я вижу след автозаполнения – зелёный штамп. В норме, если есть спор, «исполнитель» остаётся пустым и вешается на первичную аттестацию. Тут же автоподстановка с ID подателя заявки. А податель – верифицированный аккаунт фонда. Не сам Круглов. Но на выходе «присвоено Круглову». Я не люблю такие развилки.
– И я, – сказала Марина. – Загоняй в сеть.
Он кивнул. Набрал команду. На экране появилось окно запроса. «Тип: этическое убийство / манипуляция индексом. Состояние: инициировано. Меры: заморозка A, запрос первички, уведомление омбудсмана». Лев нажал «выполнить». Полоса прошла быстро, как дрожь. На мгновение комната показалась Марине живой, как организм, который ощутил укол.
– Готово, – сказал Лев. – Теперь все вокруг этого куска будут бегать медленнее.
– Хоть кто-то, – сказала Марина.
Телефон дрогнул в кармане. Сообщение. «Soteria: выражаем соболезнования. Сообщаем о полной готовности сотрудничать. Уточняем: ускоренная верификация не допускает ошибок, ответственность несут аккредитованные узлы. Любые слухи о присвоении заслуг являются частью информационных атак на добросовестные учреждения».
– Они уже играют, – сказала Марина.
– Они всегда играют, – согласился Лев. – Просто иногда нам дают фортепиано без клавиш.
– Поэзия, – отозвалась Марина, и он улыбнулся.
Вечер заступал на свой пост рано, как охранник, который любит приходить на смену за сорок минут. Марина ехала в машине, смотрела на город через прямоугольник стекла: ладьи мостов, струи света, желтые окна. В наушнике был тихий голос Лыхачёва, который отдавал распоряжения, и отрывистые ответы «Да», «Принял», «Выходим». Она вынимала на ходу из этих слов скрепки, складывала в стопку, запоминала.
– Поговори с омбудсменом, – сказал Лыхачёв. – Я знаю, ты не любишь их, но этот – с головой. Попроси приостановить публичные церемонии. Пока.
– Варсонофий? – спросила Марина.
– Он. – В голосе Лыхачёва не было насмешки. – И ещё: не лезь в прессу. Подождём токс.
– Я никогда не лезу, – сказала Марина. – Они сами вылезают.
Она выключила связь. На секунду в машине стало тихо, как под водой. Она вспомнила – это всегда приходило неожиданно – ту статью, которую написала десять лет назад, ещё работая журналисткой. «Клиника милосердия» оказалась клиникой неумения: в отчётах – свечи, в крови – сахар, в карманах – ничья копейка. Она показала это миру, как вскрытый нарыв. Клиника закрылась. Десять человек умерло за месяц, потому что им негде было получать инсулин. Тогда у Марины не было GIndex, но если бы был – он бы загорелся красным. Потом стали считать. Ей прибавили «H». Она стала «жёлтой», а потом научилась не смотреть на цифру, потому что иначе не услышишь собственный шаг.
Телефон снова дрогнул. Незнакомый номер. Она взяла.
– Марина Коваль? – голос был сухой, ровный, как аскетичный стол.
– Да.
– Это Виктор из «Родительского щита». Мы – аккредитованный узел Soteria. Вы запросили первичку по делу Круглова. Мы готовы выдать, в рамках регламента, конечно.
– Регламент – это хорошо. Дайте то, что у вас есть, до регламента. Я потом верну формой.
– Мы не нарушаем порядок, – сказал голос. – И не вмешиваемся в чужую скорбь.
– Тогда не вмешивайтесь в чужое добро, – сказала Марина. – И пришлите.
Он повесил трубку. Через минуту пришёл файл. Лев на другом конце уже его открывал.
– Есть, – сказал он. – Видеофрагмент с места эвакуации. Снято кем-то из волонтёров фонда. Качество так себе. Но… – пауза. – Марина, там нет Круглова. Ни кадром, ни тенью. Там есть другой мужчина – молодой, крупный, в серой куртке, вытаскивает женщину из густого дыма. Потом – размытый силуэт камеры, всё.
– А подписи?
– Подписи – «герой: Круглов». Автозагрузка. Это как если в поликлинике карточка пациента уже подписана, а пациента ещё нет. И врач ставит печать, потому что так привыкли.
– Или потому что так удобно, – сказала Марина. – Покажи мне кадры пофреймово. И, пожалуйста, звук. Я люблю, когда вещи говорят своим голосом.
Звук шёл неровно – треск, крики, хлопок, мат. В момент, когда мужчина в серой куртке подхватывал женщину, было слышно: «Держу! Держу её!». Потом: «Снимай! Снимай!». Голос, который кричал «Снимай», был спокойнее остальных, будто знал, что делает правильную вещь.
– Вот этот «снимай», – сказала Марина. – Найди мне этот голос.
– Попробую. Если у них есть внутренняя база голосовых сигнатур, – сказал Лев. – Но ты же знаешь, это кусок с юридическим жиром. Они не любят отдавать голоса. Это почти как отпечатки.
– Тогда я попрошу омбудсмена, – сказала Марина. – Иногда святые полезнее, чем преступники.
Имя его звучало архаично – Варсонофий, как будто вынесенное из хроник, забытых вместе с пыльными псалтырями. Но за этим именем скрывался человек иной эпохи: официальный омбудсмен системы, и в то же время редкий голос, позволявший себе не только считать, но и сомневаться. Омбудсмен, должность будто вспомогательная, почти декоративная. Но те, кто хоть раз проходил через его кабинет и проповеди в церкви, знали: здесь весы по-настоящему колеблются. Он был тем, кто не только пересчитывал цифры, но и спрашивал: зачем? Его власть не была видна на диаграммах – но её чувствовали. В мире, где каждый обязан кивать и подчиняться индексу, Варсонофий умел сказать «нет» так, что это «нет» становилось частью закона.
Для одних он был лишь тенью, мешающей гладкости процессов. Для других – последним напоминанием, что у весов есть не только гиря, но и дыхание. И именно потому его имя звучало непривычно: оно возвращало в язык что-то живое, что-то упрямо человеческое.
К вечеру она вышла на набережную. Ветер со стороны залива был как тонкий прут – гнул, но не ломал. Туристическая лодка шла пустая, с синей подсветкой по борту, как игрушка, брошенная в ванну. Марина остановилась, позвонила Варсонофию – не в храм, в офис, где он сидел с юристами и так же, как она, не любил свои стены.
– Марина, – сказал он, – вы опять против чуда?
– Я против подмены, – ответила она.
Он рассмеялся.
– Вы против подмены. Это хорошая должностная инструкция. Чего от меня хотите?
– Приостановить все публичные награждения и церемонии по узлу «Soteria-Василеостровский» до завершения проверки. И, если можно, – он поднимет шум, – ускорить доступ к голосовым сигнатурам.
– Если можно? – спросил он мягко. – Вы давно не слышали меня на проповедях. «Если можно» – слабый глагол.
– Хорошо, – сказала Марина. – Сделайте. Это правда.
– Вы когда-нибудь замечали, Марина, – сказал он, – что правда очень любит приходить без документов?
– Поэтому у нас есть вы, – ответила она. – Вы наш переводчик.
– Кого на кого?
– Души на форму.
– Смотрите, не перепутайте направление, – сказал он. – Я попробую. Но имейте в виду: если я начну, они начнут тоже. Вас будут есть в прессе. Вы готовы?
– Меня уже давно едят, – сказала Марина. – Но я нахожу в себе кости.
Он усмехнулся. Они попрощались.
Марина убрала телефон, посмотрела на воду. В такие вечера город напоминал ей большой, уставший организм, который ложится на спину, чтобы хоть немного просто полежать неподвижно. Она знала, что через час, два, десять начнутся звонки, письма, угрозы, сожаления. Но сейчас было странное, почти физическое ощущение: весы качнулись. Ты трогаешь нитку в одном месте, и где-то дрожит паутина.
Телефон шевельнулся. Сообщение. Не от Льва, не от Лыхачёва. Короткое, из неизвестного источника, с чужой шапкой и без подписи:
Весы не для вас.
Вы не умеете считать.
Умейте молчать.
Она перечитала три строки и улыбнулась не весело, скорее как человек, который увидел на красивой стене трещину, давно предвещавшую обвал.
– Загоняем в сеть, – сказала она себе. – До конца.
Она включила запись дела: «Этическое убийство № 011–ЭУ–27. Обстоятельства: смерть П.С. Круглова. Подозрение: присвоение A, манипуляция аттестацией, возможная связка с узлом Soteria-Василеостровский. Меры: заморозка, запрос первички, уведомление омбудсмана, мониторинг голосовых сигнатур. Ответственные: Коваль, Шааль».
На экране мелькнула тонкая полоска прогресса, как нож, проводящий линию на масле. Город, казалось, чуть иначе стал дышать.
С берега донёсся смех подростков. Один снимал другого на телефон, тот ужимался, лаял, изображал героя. Марина посмотрела на эти детские плюсы, которые любят красоваться, и подумала, что настоящие плюсы обычно смотрят в пол.
Она пошла домой пешком. Лампочки в фонарях были тёплыми, как старые приветствия. В окнах – чёрные кошки, фикусы, фигуры людей, о которых она ничего не знала и никогда не узнает. На каждом окне, наверное, свой индекс. На каждом сердце своя попытка уложить груз пораньше, чтобы он не упал в самый тихий час.
Когда она закрывала за собой дверь, в почтовую программу пришло письмо. Без темы. С одним вложением – коротким видео. Вода, темнота, крик. Чья-то девичья рука, мокрая, тянется в объектив, будто пытается ухватить не воздух, а саму возможность быть увиденной.
Марина не стала смотреть до конца. Она знала: это не из этого дела. Это из того, что под ним, как вода подо льдом. Там, где добро ещё не стало товаром, но уже и не песня. Там, где нужно будет идти без огней и без сводок.
Она выключила свет. На секунду остаточное свечение от экранов города зашевелилось на стене, как плеск. И исчезло.
Весы, – подумала она. – Мы всё равно их построили.
И впервые за день ей стало тепло.
* * *
Вечер тянулся вязко.
Квартира Марины была наполнена тишиной – редкий случай, когда даже холодильник, казалось, затаил дыхание. На столе лежала распечатка, та самая, что нашли у тела Круглова. Марина не включала свет, оставив лишь настольную лампу: бумага отбрасывала тень, словно пыталась скрыть часть строк.
Она сняла пиджак, села на край дивана и долго не могла прикоснуться к листку, будто он был чем-то опасным. За окном медленно темнел город, огни на улице складывались в бесконечные маршруты, и каждый напоминал о чьём-то учёте, чьей-то заслуге, чужой цифре в реестре.
Ей всё сильнее казалось: дело Круглова – это не расследование в привычном смысле. Это испытание самой системы, которая позволила перевернуть подвиг и чужую жизнь одним росчерком.
Марина провела рукой по волосам, вздохнула и впервые позволила себе остановиться и подумать: если искупление можно передвинуть, значит, вся ткань Gindex держится на зыбкой конструкции.
Иногда у системы есть уязвимость, которая выглядит не как дыра, а как фундамент.
Так было и здесь.
Искупление задумывалось неподвижным. Это был камень основания Gindex – гарантия, что подвиг или поступок не может быть снят с одного и переложен на другого. Человек спасает, человек жертвует собой, и этот след принадлежит ему, даже если мир забудет имя. В этом была честность конструкции.
Но именно в этой неподвижности скрывался соблазн. Когда создали механизм подтверждения заслуг, внесли возможность технического пересмотра. На случай ошибок, коллизий, спорных ситуаций. Это не выглядело опасным: любая система требует апелляций. Но там, где был узкий люфт, со временем появилась широкая дверь.
Формулы проверки стали инструментом подмены. Не в лоб, не открытым переводом, а через изъяны в протоколах: временные лаги, ошибки при сверке, закрытые комиссии.
Искупление оставалось «непереводимым» на словах, но фактически его перерождали.
Не человек дарил свой подвиг – его подвиг переносили. Иногда из высших соображений, иногда ради баланса, иногда ради чьей-то карьеры.
Так Gindex получил свою брешь.
Не фронтальную атаку, не подкоп извне, а внутренний сдвиг: подвиги стали обменной монетой, которую можно переоформить, замазать, переписать.
И с этого момента вся система перестала быть той самой «Гладкой доской», которую рисовали основатели.
Марина смотрела на распечатку, найденную у тела Круглова, и понимала: вот он, след. Маленький сбой, который выдаёт не техническую ошибку, а саму структуру уязвимости.
Секунда, где чей-то подвиг стал подвигом взрослого мужчины.
Секунда, где правда была вытеснена корректировкой.
Если Gindex – это храм, то перевод искупления оказался его трещиной.
Не случайной, не временной, а глубинной, идущей от самого основания.
Глава 2. Узел
«Узел – это дверь, за которой личное превращается в числовое»
(Справочник гражданина GIndex. Раздел II «Инфраструктура». §5.3)
Петербург в такую погоду казался сделанным из стекла и швабры: вымытый, холодный, чуть скользкий. Дождь не лил – точечно, будто кто-то, невидимый, долго и терпеливо ставил на воздухе крапинки карандашом. Машины шли редкими струями, и в этих струях отражались фрагменты новых кварталов у залива, где фасады повторяли небо, а небо фасады.
Soteria стояла тут, как облако в составе бетона. Фасад без букв – только значок, похожий и на петлю, и на глаз одновременно, так рисуют орган символов на теле города, если не хотят объясняться словами. Внизу ступени, с которых удобно озираться на воду; наверху темневшие, аккуратные ребра жалюзи. Между этими плоскостями был стеклянный пузырь холла, в котором звенел кондиционированный воздух и стучали каблуки, звонко, как ложкой по пустой миске.
Само это название – оболочка системы. Не просто программа, не компания, не ведомство. Это было имя, нарочито мягкое, почти ласковое. В древности так звали богиню спасения. В рекламе и публичных речах это звучало: «Soteria хранит», «Soteria оберегает», «Soteria предотвращает хаос».
На деле же Soteria была не столько богиней, сколько тюремщиком в одеждах святой. Она не управляла индексом напрямую, она была его нервной системой, посредником между числом и человеком. Все сигналы – камеры, сенсоры, отчёты – стекались в её ядро, где решалось, что считать истиной, а что – случайностью.
Официально говорили: «Soteria фильтрует шум, чтобы система слышала только подлинные поступки». Но именно там, в её «фильтрах», многое и исчезало. Удары, крики, кровь могли раствориться в словах «ошибка датчика», а подвиг мог превратиться в сухую строчку «перенос заслуг».
В чиновничьих кабинетах её уважали: Soteria гарантировала управляемость, сглаживала острые углы, превращала хаос в аккуратную диаграмму. Для юристов она была непререкаемым арбитром: «если Soteria подтвердила – значит, так и было». Для политиков – щитом, потому что именно через неё можно было замять любой скандал.
Для простого человека Soteria была безликой, но вездесущей. Она не имела голоса, кроме сухих уведомлений на экране. Её называли «невидимой рукой», «вторым сердцем системы», но чаще – просто «фильтром», который держит узлы всех человеческих судеб. Она обещала спасти и именно потому могла утопить.
Марина вошла первой. Пальто – тёмно-синее, с грубой выработкой, которую легко узнать на ощупь; платок – тонкий, серо-оливковый, завязан как у людей, у которых шея – нерв. Волосы – почти прямые, каштановые, подложены под воротник; лицо – острое, не худое, но собранное: глаза светло-серые, в них есть выработка терпения – такое встречаешь у врачей, которые привыкли дожидаться, пока анестезия подействует. На левой скуле – лёгкая, не броская тень старого шрама: то ли детского, то ли газетного – от тех лет, когда она бегала по подвалам с камерой.
Лев Шааль догнал её за мембраной контроля, как по ковровой дорожке: низкий, лёгкий, с заведённым вперёд плечом – у людей, которых больше всего на свете интересует, как устроено внутри. Волосы – темно-каштановые кудри, не длинные, но непослушные, чуть влажные от мороси; брови густые; глаза – карие, с тонкими лучиками морщин в углах – смеющимися, хотя сам он улыбался редко. Куртка – чёрная, гладкая, без лишних деталей; джемпер – графит; джинсы – тёмные, аккуратные; ботинки – мягкие, без шума. Но главное – как он держал ноутбук: как будто это не предмет, а сосуд, в котором что-то живое, тонкоплёночное, не терпящее толчков.
– Ты опоздала, – сказал он, но без укора, так, как говорят те, кто просто отмечает факт, чтобы сверить часы.
– В Петербурге опаздывают только мосты, – ответила она. – Я под них не подпадаю.
Мембрана над входом мигнула жёлтым, когда Марина шагнула, как щупальце, уверяющееся, что перед ним тот, кто должен пройти. Ровный женский голос: «Доступ класса B. Проверка… Проверка завершена. Добро пожаловать». Жёлтое смылось зелёным.
В холле стояли укороченные кадки с фикусами, слишком тяжёлые для движения; стойка, за которой сидели две женщины с идеальными ногтями и идеально неинтересными лицами; два охранника, похожие на братьев, – стрижки «под машинку», одинаковые короткие шеи; и мембрана – голографический занавес, с которым человек теперь общался чаще, чем с зеркалом.
Лифт поднял их быстро. На шестом – коридор, где стену перекрывал вид на воду. Слева – аквариум переговорной: стеклянный прямоугольник, за столом в котором уже сидели трое.
Галина Рихтер, главный юрист Soteria, – около сорока, волосы – холодный блонд, собранные в тугой, хрусткий пучок, кожа бледная, без косметики, как у людей, которые выбрали стерильный тип красоты и гонят его до конца. Лицо – узкое, с высокими скулами; рот – прямой, как отрезок; глаза – серо-синие, спокойные, без живого огня; над левым виском – тончайшая родинка, такой же правильной формы, как остальная её геометрия. Костюм – графитовый, пошив идеальный; рубашка – молочно-белая; запонки – матовое серебро. От неё пахло чем-то дорогим и никак не пахнущим.
Рядом Антон Боровик, пиар-директор – около тридцати, волосы – тёмные, зачесанные назад, слишком белые зубы, румянец как рекламная краска. Пиджак – светло-серый, сорочка – голубая в едва заметную полоску, галстук – синие диагонали; на запястье – тонкие часы, которые любят менеджеры: «как будто деловые, но главное – блеск». Его губы жили отдельно от глаз – привычка улыбаться губами, а не взглядом.
Третий Вишневский, администратор узла, седой, узкое лицо, очки в тонкой круглой оправе. Он был одет так, как будто родился в библиотеке: тёмно-синий вельветовый пиджак, серый свитер под горло, брюки расслабленного кроя. Его руки – сухие, длинные – лежали на столе ладонями вверх, как у человека, который всю жизнь что-то объясняет. В его взгляде была усталость, но не от людей, скорее от систем.
– Госпожа Коваль, господин Шааль, – произнесла Рихтер, поднимаясь только головой, – благодарим, что предупредили о визите. Soteria всегда открыта… в меру регламента.
– Регламент – моя любимая поэзия, – сказала Марина. – Можно первичку по делу Круглова.
– По этическому делу, – уточнил Боровик и улыбнулся.
– По делу о смерти человека и аномалии в присвоении A, – поправил Лев. – Для протокола.
Рихтер сложила пальцы, как будто собиралась читать молитву, но передумала.
– Этическое следствие – молодая дисциплина, – сказала она. – Структуры государства ещё учатся жить с ним. Мы тоже. Наш регламент прописывает: первичные журналы выдаются по запросу надзорного органа после сверки каналов доверия.
– Надзорный орган – я, – сказала Марина. – И запрос – вот. – Она положила на стеклянную столешницу тонкую папку с бумажным листом, бумага придавала словам вес, как песок пакету.
Боровик подался вперёд, но не взял.
– Вы же понимаете, – сказал он мягко, – чем вы рискуете? Это гуманитарный шок. Человек, которого люди считали… примером, больше, чем просто именем… – он сделал паузу, подбирая чистое слово, – и вдруг вы приходите и говорите: «Такого не было». Общество такого не любит. И вы потеряете в доверии, не мы.
Марина посмотрела на его галстук и вдруг поняла, что он идеально совпадает с диагоналями жалюзи на окне. Это было красиво, как совпадение строки в поэме и линии на карте.
– Я не люблю потерю людей, – сказала она. – Всё остальное переживу.
Рихтер посмотрела на Вишневского.
– Мы можем предоставить сводный лог. Без идентификаторов сигнатур и голосовых слоёв. Вы же знаете, персональные маркеры – закрытая информация.
– Я знаю, – сказала Марина, – что голос, который кричит «снимай», – это важнее ваших пресс-релизов.
Лев сдержанно наклонил ноутбук к ним, как будто раскрывал портсигар с доказательством: зелёные строчки бежали ровно. Он ткнул пальцем:
– В кластер от 19:40 до 19:52 входит наша эвакуация. Сопровождается двумя «интервью героя», и это в одном и том же кластере. Это не ошибка системы: эта сцепка – человеческих рук дело. И ещё: поле «исполнитель» – авто. Значит, заполнено не фактом, а скоростью.
Рихтер не вздрогнула.
– Ускоренные протоколы существуют для спасения людей. Вы же не против спасения людей?
– Я против того, чтобы после спасения убивали правду, – сказала Марина.
Повисла пауза. За стеклянной стеной прошла девушка с сеткой «переговорка—кухня», в белых кедах, с высокой «ракушкой» на макушке. На ней был свитер цвета северной травы, и Марина поймала себя на мысли, что вот это живое, человеческое, куда убедительнее любых речей. Люди всегда живут мимо институций, как вода мимо плотин.
– Хорошо, – Рихтер закрыла папку без печати. – Я подпишу выдачу сводного лога и временный доступ к V-mesh на уровне чтения без выгрузки. Но, – она подняла палец, – без копирования сигнатур и без вывода узла из режима публичной верификации. Любые попытки разрушить доверие будут трактоваться как…
– Как этическая диверсия, – подсказал Боровик. – Такой термин есть в ваших же методичках, госпожа Коваль.
– Наши методички написаны людьми, – сказала Марина. – Люди всегда оставляют лазейки для самих себя.
Их провели по коридору, где стены дышали экранами. В нишах серверные двери, синие диоды мигают, как электрические насекомые. Тонкие кабели сходились в прозрачные шахты, и по ним бежали тонкие, как паутинные, огни – пакеты, пакеты, пакеты. «Узел» – слово, которое любили здесь. Узел – как место, когда завязывают нитки. Узел – как место, где всё может затянуться.
Комната V-mesh была не комнатой даже, а тонким полуэтажом между двумя этажами. Стеклянный потолок снизу и стеклянный пол сверху. Ощущение аквариума усиливалось. Само слово звучало слишком железно и технократично. Обычные люди редко произносили это сухое слово. В быту звали проще: Зеркальная сеть.
Это не прибор и не отдельный сервер. Это ткань, невидимая паутина, в которую вплетены улицы, дома, люди.
В официальных документах писали сухо: «V-Mesh – распределённая система верификации и мониторинга событий, формирующая первичный слой данных для индекса». Но на деле всё было куда ближе к живому организму.
Представьте нервную систему: миллионы тончайших нитей, по которым бегут сигналы. Вот такой была V-Mesh. Каждый телефон, камера, браслет, датчик в лифте или на двери – это как отдельный нерв. Если где-то что-то происходило, импульс мгновенно бежал по этой сетке.
Она не думала, не решала. Её работа была в другом – запомнить мгновение. «Сначала просмотр, потом печать» – говорили о ней. Сначала V-Mesh собирала всё подряд: звук шагов, силу удара, отражение в витрине, лицо, мелькнувшее в толпе. А уже потом фильтры Soteria решали, что из этого достойно остаться в памяти, а что можно стереть, будто этого никогда не было.
Для человека эта паутина оставалась невидимой, но именно она определяла, где кончалось слово и начиналась улица, где кончался поступок и начиналась вина. Её боялись больше, чем полиции. Потому что полиция могла прийти завтра, а V-Mesh видела уже сейчас.
Лев объяснил это Марине просто:
– V-Mesh – это зеркало. Но не то, в которое ты смотришься. А то, которое само смотрит на тебя.
Он сел к терминалу, старой привычкой положив рядом ноутбук, будто резервный мозг на случай, если главный откажет. Марина стояла позади, на расстоянии вытянутой руки. Сотрудник службы безопасности – молодой, с узкой бородкой, как у персидской миниатюры, – сел в стороне, наблюдать. Он был там же, где лежал пистолет обязанностей.