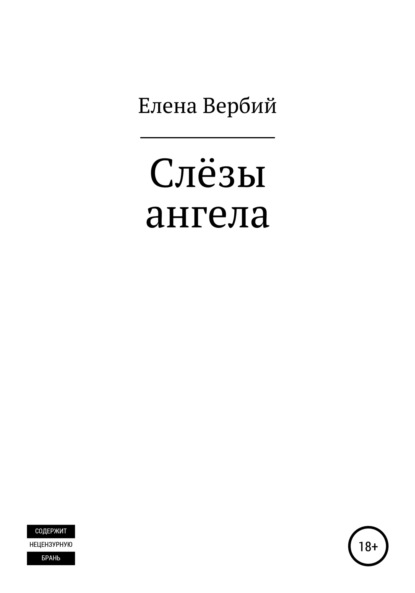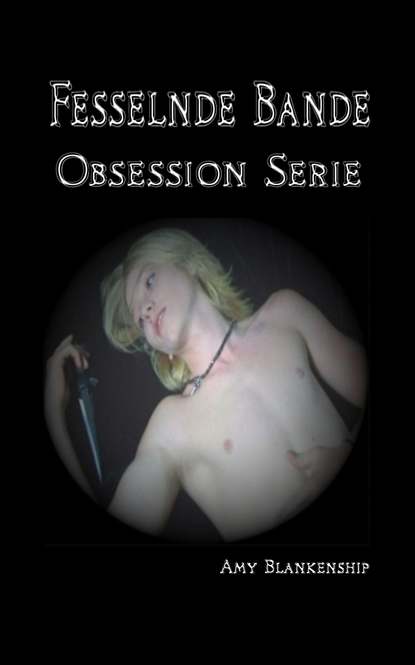- -
- 100%
- +
– Ну, ночь же. Курьеры, как кошки, они ходят всегда. Но этот… – художник почесал макушку чистой частью руки, – нет, этот был тихий. Как тень. Я подумал, соседка заказала чай. Она часто работала до раннего. Симпатичная такая. Сердитая, в смысле задумчивая все время.
– Видели её с кем-то?
– Она одна ходила. И иногда к ней приходила девочка – тонкая такая, в куртке с белой полосой. Всегда с телефоном, но голову прятала. Я думал, студентка.
– Когда в последний раз?
– Позавчера. Днём. Они сидели на лавке внизу. Она говорила быстро и тихо, а девочка – терпеливо молчала.
Марина спустилась вниз. Лавка стояла у каштана в железном ящике. Влажное дерево пахло сладко. На асфальте рядом – окурок, конфетная бумажка, маленький кусочек белого пластика, как от корпуса китайской зарядки. Марина подняла, бросила в пакет.
Возвращаясь наверх, она поймала себя на том, что уже описывает место преступления как этическую сцену: здесь, где лежит тело – нет крови, нет борозды борьбы; зато есть поведение, которое не совпадает с жизненной логикой: камеру на входе ослепили не полностью, а лишь распознаванием; ноутбук дышал, как будто кто-то легонько толкнул его клавишу; резервная копия исчезла; внешний диск ушёл; курьер без сервиса; стакан воды с двумя «ртами». Это не случай. Это аккуратная рука человека, который любит, чтобы затирали пятна сразу. В их профессии такие не редкость.
В городе к полудню стало оживлённо – «зона допуска» высыпала на улицы. В центре, на Невском, лица светились зелёным доступом, как добрые светофоры; на Петроградке – пальто, зонт, семечки свободы; в «кварталах искупления», где государство разместило модульные центры A-работ, на каждом углу висели таблички по-другому: «Зона работ по искуплению. Шум 09:00–21:00. Кредиты: 0.1–0.4 в час». Там люди в сигнальных жилетах красили бордюры, собирали мусор по штрихкодам, измеряли уровень шума протоколами, вешали птицам кормушки, – всё, за что стучали маленькие плюсики в их приложениях. Не искусство, а отработка: кто-то был должен миру и платил часами. У них были такие лица – не злые и не смирённые, простой дневной взгляд людей, которые делают своё.
Марина любила порой просто ехать вдоль этих улиц, смотреть, как тонко организована новая честность. В одном дворике НКО учила женщин делать «правильные касания» – помощь старикам, но не больше двух часов в день, чтобы не превратилось в эксплуатацию; в другом подростки клеили на мусор скан-метки – так любой, кто бросал его не в урну, знал: мир посмотрит. На остановке женщина показывала зелёную метку кондуктору; мужчина с жёлтой меткой нервно вертел телефон, пока контролёр не кивнул: «ладно». На мосту парень снимал девушку на фоне воды: смешной, выученный добрый жест, как в рекламе: «мы вместе – и нам за это начислят». Город жил, как дорогой отель – всё чисто, всё удобно, но главное – всё записано.
– Смотри, – сказал Лев в машине. – Я поднял её открытые публикации. Мария Сарий писала про экономию искупления – как богатые снимают редкие A-кредиты и как «фермы» выстраивают сцены. Её последняя заметка – «Невидимые свидетели». Она писала, что у настоящих героических поступков часто плохая картинка, потому их легко обнулять в чужую пользу.
– Её убили, – сказала Марина.
– Или она «устала» и «случайно». – Лев вздохнул. – Я всегда говорю: пока нет токсикологии…
– Токсикология будет, – сказала Марина. – Но пока у меня есть курьер без сервиса, «режим приватности» в доме, внешний диск, который ушёл, и дневник женщины, которая нашла то, что не хотели, чтобы находили.
Они заехали в квартал искупления, где Марина любила гулять, не садо-мазо, а чтобы помнить: цифра – это всё-таки люди. Здесь, у шиномонтажа, двое – отец и сын – красили стену: отец держал валик, сын – фонарь; в окне, пробитом на фасаде, виднелась женщина, которая подавала им заклеенные ведра. Внизу, у контейнера, два парня копались в упавшей коробке – собирали по штрихкодам пластик на переработку. На лавке – бабушка в вязаной шали; у неё телефон с потрескавшимся экраном, но на нем всё равно светилось: «Зона: жёлтая. Рекомендовано: А-работы». Рядом сидела девочка – тонкая, куртка с белой полосой, капюшон; она держала в руках телефон, но смотрела не в него, а в асфальт. Вид у неё был такой, как у человека, который пытается стать невидимым.
– Видишь? – тихо сказала Марина.
– Вижу, – сказал Лев. – Но не гони. Мы – не соцслужба. И не пресса.
– Я не гоню, – сказала Марина. – Я просто запоминаю. Это другой вид зрения.
Криминалистика в этическом отделе выглядела скучно. Никакой красивой доски с уколами и нитями (хотя Марина любила такой образ); только экраны и протоколы. Лев принёс из «Мануфактуры» не только валидатор, но и копию сводного отчета из серверной управляющей компании: логи домофона, силуэтов на входе два: курьер с мягкой походкой, среднего роста; и женщина, выходящая в 22:19, – Мария, вероятно: волосы каре, пальто тёмное, пакет с продуктами.
– Силуэт курьера ничем не примечательный, – сказал Лев. – Но есть одна вещь: у него в правой руке сумка, которая шуршит по звуку микрофона. Это плёнка. Курьеры сейчас редко ходят с плёночными пакетами. Это старье. И второе – шаг у него аккуратный, как у людей, которые знают, где камеры. Он в коридоре идёт по стене, как будто не хочет закрывать их взгляд.
– Профессионал? – спросила Марина.
– Или человек, который умеет смотреть в потолок. У «ферм» же есть техника: камеры любят шоу. Он знает, где шоу, и проходит его вслепую.
Судмед прислал первый отчёт – предварительный: низкие концентрации зопиклона в крови, следы гипоксии в лёгких, петехии на конъюнктивах. Сон плюс доведение. Пальцев чужих не нашли; микроследы – волокно синтетики на краю подушки. «Слишком чисто», повторил он в конце – не как формула, а как человеческая оговорка.
– У неё была записная книжка, – сказала Марина. – И в ней было написано: «Ферма № 3». Мы едем туда.
– Адрес есть?
– Будет. – Она нажала номер Вишневского, администратора узла Soteria. Тот поднял быстро.
– Мне нужна ваша периферия – всё, что идёт мимо официального: внутренние чаты верификаторов, заявки досмотра, строчки с отменой логов.
– Это… – Вишневский вздохнул. – Вы хотите меня в тюрьму?
– Я хочу, чтобы мы не хоронили людей по расписанию, – сказала Марина. – У вас есть офф-чаты. Я знаю. Вы же живые. В офф-чатах всегда правда без галстука.
Он помолчал.
– Я пришлю вам анонимизированные, – сказал он. – Вы же понимаете: я не хочу в тюрьму, но и жить с этим не умею.
Через десять минут у Льва на экране была тропа из коротких, полушутливых фраз: «а ты видел, как они вчера снова гоняли «пожар» на складе?», «сказали – мы лишь фиксируем», «вчера из «фермы 3» вывели «героя» через задний вход – пиарщик сам вёл». Рядом стикеры с шутками про «святых в прайм-тайм». Внизу – «не пересылать». Смайлик.
– Адрес, – сказал Лев. – Промзона на Парнасе, старый склад. Вход со стороны замаскирован под склад декораций.
– То есть идеально , – сказала Марина.
Они поехали в промзону. По дороге город снова менял кожу: от нарядных витрин до складов с облупленной краской и серыми собаками, которые здесь не лаяли, а смотрели. В одном дворе мужчины на перекуре держали телефоны и считали «A-минуты» – им нужно было добрать до зелёного, чтобы вернуться на работу в клинику. В другом – две девочки с рюкзаками спорили о возрасте допуска: «ты сначала поработай, потом иди в их универ; им с «красной» всё равно нельзя». Воздух на Парнасе пах бензином и картоном.
Склад декораций оказался неожиданно нарядным изнутри: чёрные занавеси, лампы на рельсах, тепловые манекены, маты, фальш-двери с выбитыми стёклами и сухой, рассыпчатый запах театра. На полу свежая краска тех самых бордюров; у стены импровизированная «река»: голубая ткань, вентиляторы, туман. Всё как в студенческом театре и как в плохой телерекламе.
– Без ордера мы можем только смотреть, – сказал Лев тихо. – Но и этого достаточно.
Он поднял валидатор, поймал «пыль» – микросигналы от маячков, которыми оснащали здесь реквизит. Возле «реки» – сигнатура, похожая на ту, что видели в деле Круглова: маленький цифровой хвостик в метаданных, едва заметный сдвиг временной метки – постоянная задержка в 73 миллисекунды. Она была, как дрожь руки у профессионального фальшивомонетчика: почти незаметна, но повторяется.
– Это оно, – сказал Лев. – Тот же дрожащий след, что был в эвакуации Круглова и «интервью героя» в двух других городах.
– Подпись, – сказала Марина. – Невидимая подпись. Кто-то оставляет её, даже когда думает, что растворился в уточнении метаданных.
В соседней комнате – столы, на них – бумага, как будто «ферма» верила в традиционные способы: графики смен, роллинг героев, контакты свидетелей, имена координаторов. На одном – список: «Герой 1», «Герой 2», «Герой 3», напротив – рост, приметы, эмоциональная динамика. Ни одного настоящего имени. Только кодовые: «ОЗОН», «СВЕТ», «КИРПИЧ». На краю – бумажка, написанная чужой, торопливой рукой: «Аз… (клякса) …приходила. Больше не приводить. Слишком честная и слишком много требует».
Марина провела пальцем по этой кляксе.
– Она была здесь, – сказала она.
– Или кто-то с похожим именем, – отозвался Лев. – Но даже если это не наша девочка – это чья-то еще девочка. И её добро записали не на неё.
На складе было пусто. Их присутствие отмечали только пыль и алгоритмы. Они ушли, ничего не тронув: бывает так, что лучший способ увидеть – это не поднимать крышек.
Вечером офис этического отдела был тише, чем всегда. Город снаружи еще жил – машины, новости, «сводки индекса». Внутри – шелест печати, низкий гул вентиляторов. Марина сидела за своим столом, записывала: «М. Сарий. Ночь. Курьер без сервиса, внешняя память отсутствует, тетрадь «Фермы доброты». Подподпись: «дрожащая» задержка 73 мс – совпадение с узлом «Soteria-Василеостровский» и «фермой» на Парнасе. Запрос: голоса, зеркала, ордер на склад декораций». Она писала ручкой – не из снобизма, а потому что так легче услышать мысль. Чернила ложились медленнее, чем бегут пальцы по клавишам, и это замедление было нужно: мысль не проскакивала, не пряталась в механическом ритме, а успевала прозвучать. В каждом штрихе оставалась дрожь руки, её собственная, не машинная. В мире, где память давно превратили в цифры и задержки измеряли миллисекундами, это было большим упрямством – позволить словам сначала стать чернилами, прежде чем они станут данными. Бумага не слушала систему, бумага слушала только её.
Лев в соседней комнате сшивал хвостики: накладывал временные метки, искал повторяющиеся дрожи, проверял пакеты – в таблице вылезали на свет странные совпадения: клипы «героев» в разных городах, близкие по структуре мотивы, одинаковые световые теги в метаданных. Внутри каждого – тот самый тоненький сдвиг. Подпись тени. Как если бы кто-то, убирая имя исполнителя, оставлял на полях почерк.
– Назовём его «σ-тень», – сказал Лев, показывая на экран, – чтобы не влюбляться в метафоры.
– «σ-тень» – годится, – сказала Марина. – Главное – не забыть, что за ней люди.
Телефон мигнул. Судмед прислал ещё одну строчку: «Слизистая носоглотки – следы тонкой синтетики. Тип – близко к медицинской плёнке». Следующую – Лыхачёв: «Нашли на лестнице у «Мануфактуры» обрывок полиэтиленовой ручки – вероятно, от пакета». И третью – Варсонофий: «Церемонии приостановлены. Пресса воет. Но пусть воет – лучше волки, чем шакалы. Вы держитесь?»
Марина ответила последнему словом «Да». Остальные мысли оставила для вечера.
Она откинулась в кресле, закрыла глаза. Перед ней встало лицо Марии Сарий – тёмные волосы, тёплая кожа, усталые глаза. «Симпатичная. Сердитая – в смысле задумчивая все время», – сказал про неё художник. И это было точнее протокола. Девочка на лавке с белой полосой на куртке тоже вставала – как тень, как намётка, как дрожь. «Моё… но не моё», – всплыло где-то из памяти, перекликаясь с тетрадью: «Девочка «Т»… боится говорить». Когда-то, не сегодня, она попросит её говорить. И защитит. Сегодня надо держать нить.
В конце дня Лев принёс ей распечатку из офф-чатов. Внизу короткая, как шаг, фраза: «Не забудьте про «σ». Без «σ» у нас ничего не срастается».
– Видишь? – Лев ткнул пальцем в сноску офф-чата. – Это не мы придумали фантом. Они сами зовут так этот шлейф. «Сигма» – их слово. Семьдесят три миллисекунды – их почерк.
– То есть совпадение не случайно? – спросила Марина.
– Не совпадение, а привычка узла. Как у пианиста – всегда один и тот же акцент на слабой доле.
– Значит, «σ-тень» – не только наша поэзия, – сказала Марина. – Это математика.
Она открыла дело и добавила: «Обнаружен повторяющийся признак манипуляции: «σ-тень», дрожащая задержка 73 мс в слое метаданных, совпадающая на разных узлах. Вероятно существование централизованной схемы обнуления A-кредитов и переназначения искуплений на заказчиков. Подозрение: «фермы доброты» – фронт». И ниже – «М. Сарий – вероятная жертва этического убийства (сон + доведение). Мотив: препятствовала, собирала материал, офф-чаты указывают на панику в узле».
На стол упала тоненькая тень, как от крыльев насекомого. Это был вечер. Окно затянулось влагой. Где-то внизу по улице прошла стайка подростков, смеясь так, как смеются только живые. Марина взяла телефон. Новое письмо без подписи.
Вы ищете следы на свету.
Они – в тени.
И подпись тоже.
Она посмотрела на экран секунду, потом закрыла письмо и добавила к делу: «Подпись тени – подтверждается. Дальше идти в тень».
Город за окном повернулся другой стороной. На ней были тот же дождь, та же Нева, такие же таблички «допуск», та же экономика искупления. Но под этой кожей та самая сеть, в которую попала Мария Сарий, где девочка с белой полосой на куртке училась заново говорить «моё», а не «точно нет», и где слово «герой» становилось частью бухгалтерии. Марина поднялась, взяла пальто, шарф на автомате завязала потуже, как будто это могло защитить не от холода, а от безличия.
На выходе мембрана, как всегда, спросила: «Кто вы?»
Экран, как всегда, ответил: «[GIndex: 6.2 • зона жёлтая] Доступ: класс B».
Она, как всегда, прошла. И впервые за день улыбнулась. Потому что у тени появился след. А у следа подпись. И никакой зелёный допуск не справится с тем, что написано на полях.
Глава 4. Долг
«Коллективное действие фиксируется системой как совокупный вклад. Каждый участник несёт ответственность за общий результат»
(Справочник гражданина GIndex. Раздел IV «Социальное взаимодействие». §2.3)
Туман висел низко, как непрошитая подкладка. Петербург дышал ровно, серым утром, и казалось, если сделать вдох поглубже и задержать дыхание, услышишь, как где-то под городом гудит гигантская машина учёта. Марина шла по узкому дворику к бюро и думала о чашке крепкого чая – не для сладости, а для чёткости. В сумке тихо постукивала ручка о блокнот.
У дверей её встретил Лев – волосы, как всегда, непослушно упавшие на лоб, куртка застёгнута на три четверти, взгляд собран, но где-то за карими зрачками маячила недоспанная ночь.
– Есть, – сказал он вместо приветствия, протягивая планшет. – Судмед по Круглову. Предварительное и токс.
Они прошли насквозь пустой коридор, где лампы гудят чуть тише положенного, уселись в комнате с длинным столом, на котором всегда лежала ровная стопка чистой бумаги, как успокоительное. Марина просмотрела заголовки отчёта, опёрлась локтями.
– Читай, – сказала она.
Лев взял лист. Голос у него был ровный, без придыханий:
– П.С. Круглов. Сердце – без грубых органических изменений, легкие – признаки гипоксии, на слизистой конъюнктив – множественные точечные кровоизлияния. В крови: низкая концентрация Z-препарата из группы небензодиазепиновых снотворных (вероятно, зопиклон), следы этанола на уровне пищевого. На коже лица – микрочастицы синтетической плёнки; по спектру – близко к медицинской, но не сертифицированной. На правой щеке – еле заметная дугообразная компрессионная борозда.
– Сон с доведением, – тихо повторила Марина. – Как у Сарий.
– И ещё. – Лев перелистнул. – Смарт-биометрия часов: резкое падение SpO₂ на отрезке 23:49–23:53, затем артефакты, затем ровная линия. В это же время пинг телефона и попытка доступа к V-mesh – помнишь его печать квитанции?
– Помню, – сказала Марина. – Он понял несоответствие, и кому-то это не понравилось.
Лев перевёл взгляд на второй лист.
– И последнее: На внутренней стороне стакана обнаружены два различных набора кожного сала, один – принадлежит погибшему, второй – не идентифицирован. В жилище посторонних отпечатков не обнаружено. Вероятен сценарий: препарат + кратковременная локальная гипоксия с использованием плёнки/тканевого мешка. Орудие не найдено. «Слишком чисто».
– Судмед – наш человек, – сказала Марина. – Не в смысле пристрастия, в смысле языка.
Она откинулась в кресле, глядя на потолок. На белой плитке отражался их стол, как в миниатюре. Недостающий кусок складывался: оба дела похожи. «Чистота» как признак профессионала. И где-то в слое данных та самая дрожь на 73 миллисекунды, «σ-тень», которая повторялась из города в город.
– Видишь? – Лев слегка повернул экран. – Я прогнал куски последнего «геройского» кластера Круглова через наш фильтр. В зеркалах – та же задержка. Та же подпись, что и у «фермы» на Парнасе.
– Значит, схема одна, – сказала Марина. – Сверху Soteria, рядом «фермы», а между ними те, кто умеет полировать логи.
– И те, кто умеет полировать людей, – отозвался Лев. – Аккуратно, до синей кожи.
Они ненадолго замолчали – пауза, в которой слышно, как шевелится в окне мокрый свет.
– Поедем к Варсонофию? – спросил Лев.
– Позже, – сказала Марина. – Сегодня – неожиданно рутина. Для неё это слово всегда было двусмысленным. В кино следователь садится в машину и едет к разгадке. В жизни рутина означала: тонуть в бумагах. Не в чернильных – в цифровых, но оттого не легче: десятки протоколов, отчётов судмедов, графы, которые нужно заполнять, как пустые клетки в бесконечной игре судоку. Их работа редко была похожа на охоту. Чаще она напоминала переписывание бухгалтерских книг чьей-то невидимой жизни. И лишь иногда сквозь эту вязкую тьму вспыхивало то, ради чего всё и затевалось: движение, догадка, шаг к живому человеку.
Лев усмехнулся:
– С тобой всегда всё неожиданно. То убийства, то тайные архивы… а сегодня, оказывается, бумажные дела. Самый опасный противник следователя – отчёт в трёх экземплярах.
Марина тоже улыбнулась, но уже без лёгкости, впереди и правда ждали десятки страниц и подписи.
Домой она пришла не поздно – слишком много дел впереди. Хрущёвка на Лиговке встречала привычным запахом старого дерева и воды в батареях. Кухня – маленькая, чистая. На окне – выцветшая герань. На стене – старый календарь с фотографиями мостов, застывший на июне позапрошлого года. Она не меняла его сознательно: пусть в доме держится всегда лето.
Марина доставала из шкафчика кружку и думала не о делах, а о собственных мелочах. О том, как она ненавидит слово «проверка» в голосе мембраны; о том, как врачи когда-то объясняли ей про комплаенс – не для того, чтобы вылечить, а чтобы вписать. О том, как иногда ей снится не убийство, а звук: как щёлкают на ленте крошечные ярлыки «A 0.2, A 0.4, A 1.5», и кто-то их переклеивает. И ты просыпаешься с липкими пальцами – от клея.
Она заварила чай. Села к окну. Напротив в чужой кухне кто-то жарил лук, и запах был такой тёплый, что хотелось постучать – просто чтобы сказать «спасибо». В телефоне мигнуло служебное: «Напоминание. Личный GIndex пересчитан по итогам недели. [G 6.2 → 6.1]. Причина: «А-работы, наставничество (онлайн) 0.3 ч; корректировки по делу № 011-ЭУ-27 не учтены (вне влияния)»». Она улыбнулась невесело. Десятая часть балла, как пылинка. Её «жёлтый» тенью отступил на шаг, но оставался. «Пусть, – подумала она. – Если тень отступает, значит, свет есть».
В прихожей, на крючке, висел её шарф – тот, которым она всегда закрывала горло. Привычка. В углу стопка книг по старой журналистике; сверху тонкая брошюра: «Этика медиа в эпоху прозрачности». Она когда-то верила в эту фразу, как в ручку, за которую можно удержаться. Теперь ручка была цифровой и не всегда держала вес.
Телефон позвонил.
– Мама, – сказал знакомый усталый голос из другого города. – Ты снова не спишь?
– Ещё как сплю, – улыбнулась Марина. – Мы, этики, спим из принципа.
– Береги себя, – сказал голос. – Ты же знаешь, как это всё…
– Знаю, – сказала Марина. – И делаю.
Она поставила телефон. И впервые за день позволила себе пять минут, в которые можно не быть «доступом класса B». Просто человек у окна, дымящийся чайник, дыхание города за стеклом. Потом встала. Работа ждала.
– Поехали, – сказал Лев на утро, выруливая на широкую, как лезвие, магистраль.
– Куда? – спросила Марина, хотя знала: сначала в бюро, потом в город, потом туда, где сеть делает вид, что её нет.
– Два дела – две нитки, – сказал Лев. – И одна «σ-тень». Я не спал, прогнал базу «интервью героев» по всей стране за три месяца – точки совпадают не только по задержке, но и по гулу низкой частоты в звуке. Это как подпись микшера. Оттуда, где нарезают «пакеты». – Слышишь этот гул? Он не в самом событии. Он там, где его сводили. Как в звукозаписи: у каждого студийного инженера свой почерк – один слишком подрезает верх, другой оставляет низы жирными, третий гонит компрессор до хрипа. Слышно даже сквозь музыку.
Он протянул Марине наушники. Тонкий гул низкой частоты, будто железнодорожный мост дрожал где-то далеко, повторялся снова и снова.
– Нарезают «пакеты» – куски видео, телеметрии, звука. Подгоняют под сценарий. Потом отправляют в сеть как живое. Но в каждом фрагменте остаётся эта дрожь. Семьдесят три миллисекунды, ровно, как самым острым ножом. – Лев усмехнулся. – Их мастерская думает, что они идеальны, но они сами же оставили автограф. И эта тень – громче, чем все их прикрытия.
Марина слушала и кивала: действительно, за картинкой, за словами прорывался странный низкий звон, похожий на далёкое эхо.
– Автограф, – повторила она. – И ты его читаешь.
– Не я, – сказал Лев, – Сама система. Просто нужно захотеть услышать.
– Есть адреса, где нарезают «пакеты»?
– Есть зоны, – сказал Лев. – Не адреса. Но одна из них интересная – подземный переход у Проспекта Просвещения. Там стоит «Пункт взаимопомощи»: они формально собирают А-кредиты на реабилитацию зависимых, а по логам – каждый вечер туда заносится зерно клипов. Похоже, там перевалка.
Марина не успела ответить – загудел телефон. Лыхачёв.
– Коваль, – сказал он, – ты просила непривычное место для встречи с омбудсманом? Получишь. Он сегодня в «Пункте взаимопомощи» сам, без облачения. С любителями блюд из общественного мнения.
– Он что, суп разливает? – спросила Марина.
– И суп, и тишину, – сказал Лыхачёв. – Иди. Посмотри.
Переход был длинным, как больничный коридор. Тёплый, пахнущий выпечкой, мокрыми куртками и дешёвым мылом. «Пункт взаимопомощи» устроился в боковой нише: столы, термосы, лотки, на стене объявление: «Точка апелляций G-индекса: консультации 19:00–22:00. Без очереди – «красная зона» и несовершеннолетние». Люди стояли, ели суп, кто-то смеялся, кто-то молчал. В углу стоял стол с ноутбуком, рядом маленький принтер, такой, что печатает не только квитанции, а как будто и облегчение.
Он был там в простом тёмном свитере, без креста, без медной тяжести на груди. Варсонофий стоял, закатав рукава – узкие кисти, сухие пальцы, аккуратно подстриженные ногти. Лицо – спокойное, мягкие морщинки у глаз. Волосы – редкие, светлые. Он наливал суп в миски – неторопливо, но с точностью. Рядом с ним девочка лет семи держала ложку, помогала. За столиком слева двое волонтёров объясняли женщине в пуховике, как подать апелляцию: «вот так – загрузить, вот – доверенность, вот – подтверждения». Женщина тихо плакала и кивала.
Марина остановилась на секунду, просто смотрела: как высокие слова превращаются в привычные руки. Лев, идущий рядом, чуть сбавил шаг.
– Неожиданно, – сказал он.
Варсонофий увидел её не сразу. Она не любила важных входов, предпочитала угол. Но взгляд у него оказался таким – видит и то, что не в центре. Он поставил миску, вымыл быстро руки, подошёл.
– Госпожа Коваль, – сказал он, как будто они давно были знакомы. – Вы вовремя. Здесь люди учатся возвращать себе голос. Это полезно смотреть перед тем, как говорить о весах.
– Весы у вас? – спросила Марина.
– Весы у всех, – сказал он. – Вот, видите: девочка аноним, семнадцать лет. Её вытянули из «красной», теперь «жёлтая». Каждый вечер приходит помогать суп разливать. Учатся вместе.
Девочка сжала ложку и улыбнулась робко. На куртке красовалась белая полоса. Марина непроизвольно задержала на ней взгляд и узнала, но решила, что пока не время, потом вернулась к Варсонофию.