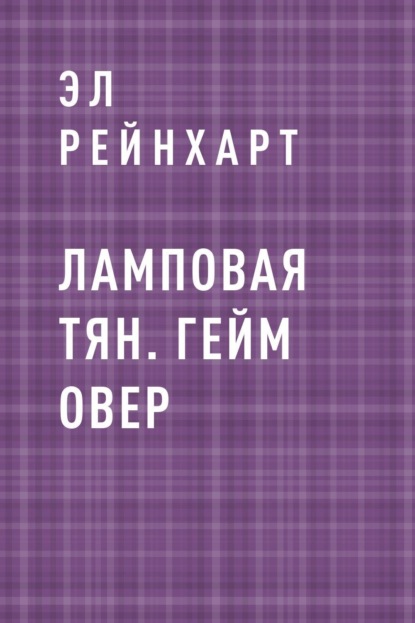- -
- 100%
- +

То, что не вписано, вернётся. То, что вычеркнуто, возьмёт своё.
НеизвестныйПролог. Запись мальчика
В тот год снег выпал рано и лёг неровно. Во дворе усадьбы Грачевских он лежал кусками, как старая вата, набитая в ящики. Между овальными клумбами торчали голые стебли георгинов, а на бельевых верёвках ещё висели прищепки, будто кто-то собирался сушить не бельё, а туман.
Дом стоял спиной к заливу и всегда выглядел чуть мокрым. Даже в солнечные дни краска на рамах блестела так, что казалось, её только что протёрли тряпкой. В подъезд вела широкая каменная лестница, ступени были стёрты до гладкости и помнили больше ног, чем любой живой человек.
Савве было одиннадцать. Он любил этот дом и одновременно стеснялся того, как он его любит. Другие говорили «та развалюха», «та коммуналка», «та дыра на набережной», а он каждый раз соглашался кивком, но внутри было неприятно, как от плохо сказанного слова. Ему казалось, что дом слышит всё, что о нём говорят. Это казалось детской фантазией, однако он не спорил с собой.
Сегодня ему не хотелось возвращаться. Такое случалось редко. Обычно он торопился к их кухне с побелёнными стенами, к запаху картошки и книжной пыли. Но сейчас у подъезда стояла группа мальчишек у самой двери, и среди них – Денис.
Денис был на два года старше и на голову выше. В их дворе говорили, что он «всех ставит на место». Савва уже знал, что это значит. За последние месяцы его «ставили на место» несколько раз. В ход шли толчки, подножки, шапка летела в сугроб, тетрадь в лужу, ему дали прозвище, которое прилипло к нему как грязь. Он терпел, не потому что был смирным, а потому что не понимал, как иначе. Спрятаться от двора было негде.
Сегодня всё было уже привычно. Денис увидел Савву, ухмыльнулся и шагнул вперёд. В руках у него была снежная глыба, плохо сформированный ком с примёрзшим к нему кусочком льда.
– Смотри, кто к нам пришёл, – сказал он громко.
Другие засмеялись. Савве захотелось повернуть обратно к остановке автобуса, но на остановке было ещё хуже: там собирались старшие. Внутрь, в подъезд, тоже не пройти прямо. Он замедлил шаг и всё-таки пошёл, надеясь, что в этот раз всё обойдётся, как-то само рассосётся.
Не обошлось.
Снежный ком попал ему в лицо, ледяной кусок ударил в губу. В глазах мелькнули жёлтые круги. Он машинально поднял руки, а кто-то сзади рывком снял с него рюкзак. Швы натянулись и отозвались болью на плечах. Кто-то посильнее ткнул его в спину, и Савва, не удержав равновесия, обнял ступень, приложившись коленом и ладонью.
Смех был громкий, разлетающийся по подъезду, как воробьи. Денис наклонился сверху. На его куртке висела сбоку металлическая собачка замка, она блестела, походила на зуб.
– Ты чего, Грач? – спросил он.
Прозвище прилепилось пару недель назад. На домофоне рядом с дверью по-старому значилось: «Грачевские, усадьба, служебный вход». Кто-то прочитал вслух и решил, что Савва, живущий здесь, и есть «грач». Птица, которая всё уносит в клюве и не умеет за себя постоять.
Савва не ответил. Губа ныла и уже чуть припухла. Он поднялся и молча протянул руку за рюкзаком. Денис сделал вид, что собирается отдать, и в последнюю секунду бросил его на ступени. Молния раскрылась, как пасть, изнутри высыпались тетрадки, учебник по литературе и старый, пожелтевший словарь. Словарь ударился о камень ребром и раскрылся на середине. Страницы один миг за другим прошуршали и замерли.
– Осторожней, – вырвалось у Саввы.
За эту фразу ему прилетел лёгкий щелбан в ухо.
– Словарь жалко? – протянул Денис. – Так возьми и съешь, книжный червь.
Они смеялись ещё несколько секунд, потом разошлись к своим подъездам. У каждого была своя «развалюха», и каждая казалась им безопаснее, чем этот вход.
Савва медленно собрал тетради. Аккуратнее всего он закрывал словарь, потому что внутри, между страниц, лежал засушенный клевер. Он давно забыл, с какого года тот клевер, но каждый раз, когда словарь падал, ему казалось, что именно эту маленькую сухую зелень он спасает от рушащегося мира.
К подъездной двери подступила тишина. Мамы до вечера не будет, она была на смене в поликлинике, разносила карточки из кабинета в кабинет. Отец с утра уехал на рейс, он работал в порту на буксире, иногда исчезал на несколько дней, иногда возвращался к полуночи и пах соляркой и ветром. Квартира будет пустой. Это хорошо, потому что не нужно делать вид, что всё в порядке, и плохо, потому что негде будет спрятаться, кроме как в комнате.
Он забрался на второй этаж. Стены подъезда местами отсырели и вспучились, образуя пятна, похожие на материковые карты. Савва любил разглядывать их, как мегаполисы из учебника географии. Сегодня он прошёл мимо, не глядя. В горле стоял ком. Не от боли, а от бессилия, которое хуже.
На площадке второго этажа стоял стол, покрытый клеёнкой с облупившимися цветами. За столом сидела баба Лида, бывшая дворничиха, теперь «дежурная по дому». Она сторожила подъезд, ключи, жалобы и новости. У неё был свой мир, в который входили все, кто жил в доме, и ещё те, кто когда-то здесь жил, а потом ушёл, но всё равно как будто оставался в списке.
На столе лежала толстая книга в тёмном переплёте. Рядом чашка с остывшим чаем и блюдце, куда баба Лида складывала сахарные крошки. Рядом с книгой лежала ручка на цепочке.
– Опять тебя, значит, – сказала она, увидев его синюю губу и облезлый нос.
В её голосе не было насмешки. Скорее усталость, словно она уже видела много скандалов и ссор и знала, что все они похожи друг на друга.
– Споткнулся, – ответил он.
Она посмотрела внимательнее, но спорить не стала. Опыт старой дворничихи учил не задавать вопросы, на которые дети всё равно не ответят.
– Споткнулся… Тоже мне, – пробурчала она, но взгляд её был мягкий. – Ладно. Иди, умойся. Щёку приложи холодным. Только кровь на лестнице не оставляй, а то начальство скажет, что это хулиганы бешеные.
Он уже собирался пройти мимо, но взгляд зацепился за книгу на столе. Он видел её тысячу раз, но никогда не вглядывался. Сейчас обложка показалась особенно тёмной, как кусок старого дерева, вынесенный на берег. На корешке золотистыми буквами было написано: «Домовая книга». Чуть ниже ещё строчка: «Усадьба Грачевских».
– А это что? – спросил он, хотя знал.
– Документ, – ответила баба Лида. – Жизнь наша на бумаге. Кто прописан, кто выписан, кто умер, кто родился. Всё тут. Дом без книги как человек без паспорта. Никакой силы не имеет.
Она сказала это спокойно, как очевидность.
Савве очень не понравились слова «дом без книги». Ему на секунду представился их дом, вывернутый наизнанку, без лиц, без окон, без подписей, как картонная коробка, оставленная у мусорки. Дом с книгой был живым. Это почему-то казалось важным.
– Ты что, первый раз видишь? – спросила баба Лида. – Каждый, кто родился у нас, сюда попал. Ты тоже. И мама твоя. И дед. Книга старше тебя. Она старше меня. Эй, – она пододвинула книгу. – Вон, хочешь, покажу.
Он промолчал, но не отошёл. Это было похоже на притяжение. Она раскрыла тяжёлый том легко. Страницы слегка посвистывали, цепляясь за воздух.
Савва увидел таблицу. Печатные графы бегали вниз ровными колонками: фамилия, имя, отчество, год рождения, вселение, выбытие, примечания. Чернила на одних строках были выцветшими, с коричневатым отливом, на других свежими, почти чёрными. Где-то стояли пометки красным карандашом: «умер», «выбыл в связи с переездом», «снят с учёта». Баба Лида провела пальцем по страницам, словно по знакомому маршруту.
– Вот, смотри, тут ещё дореволюционные… – пробормотала она, но пролистнула дальше. – А это уже наше. Вот мама. А вот и ты.
Он увидел свою фамилию. Строчка была аккуратная, немножко наклонённая вправо. «Савелий Викторович». Год рождения. Номер квартиры. В графе «выбытие» пусто.
– А если… – он запнулся. – Если кто-то плохой, его тоже записывают?
Баба Лида усмехнулась.
– Плохие, хорошие, какие ни есть, живут под одной крышей. Дом всех держит, всех терпит, всех записывает. Кого не записали – того как будто и нет.
Фраза прозвучала просто. Но в этих словах было что-то, что укололо сильнее, чем снег в губу.
– Того как будто и нет, – повторил шепотом Савва.
Баба Лида закрыла книгу и постучала по обложке пальцами. В их стук вмешался далёкий морской гудок.
– Раньше, – сказала она, – говорили, что кого в домовую не внесли, того и дом не запомнит. И судьба у того всякая, ни туда ни сюда. А кого дом записал, с того спрос особый. Дом не любит, когда про него гадости думают. Твоя прабабушка говорила. Я не знаю, правда ли это. Но знаешь, сколько я тут живу, столько замечаю: кто к дому с уважением, тому он и жильё даёт тихое. А кто пакостит… тем по-разному бывает.
Она улыбнулась, чтобы смягчить последнюю фразу, но слова уже легли куда надо.
Савва кивнул и пошёл к своей двери. Однако на пороге его остановила мысль. «Кого не записали, того как будто и нет». Она свернулась внутри в тугой клубок. В голове тут же возник Денис. Его лицо, отливающие металлом зубчики, смех, щелбан. Он привычно стал думать: «Как бы сделать так, чтобы он исчез». Подумать было привычно, сделать – нет.
На кухне было пусто, только на столе лежала записка от мамы: суп на плите, хлеб в хлебнице, чай в банке. На подоконнике сидела «незаконно» пробравшаяся туда кошка соседки и смотрела на улицу.
Савва умылся, приложил к губе холодную ложку. Губа перестала болеть, но ощущение несправедливости не ушло. Он сел за стол, открыл тетрадь, попытался сделать математику. Цифры расплывались. Каждое уравнение кончалось тем, что в голове вспыхивало «Денис». Жирно, чёрным мелом на доске.
Он снова вспомнил домовую книгу. Толстая, тяжёлая, записывает всех. Дом помнит, кого впустил, и не отпускает без отметки. А если… А если можно сделать вид, что кого-то нет?
Мысль была глупой и в то же время очень упрямой. Она цеплялась за что-то древнее, за рассказы бабушки о том, как в деревне писари не заносили кого-то в метрическую книгу, и тот будто бы потом жил всю жизнь «не пойми как». Вроде есть человек, а вроде и не числится.
Он поднялся, не доделав уравнение. Оделся и вышел в коридор. Тишина в подъезде была особенная, вечерняя. Где-то на третьем этаже кто-то ругался, но негромко, сквозь стены слышался лишь гул. Двор под окнами осветился фонарём, снег стал мерцающим и серебристым.
Стол бабы Лиды стоял пустой. На стуле висел её платок, она, наверное, вышла на улицу покурить или забрать почту. Лампочка под потолком освещала только половину площадки, другая половина пряталась в мягкой тени. Домовая книга лежала на месте широким тёмным прямоугольником.
Савва остановился в нескольких шагах. Сердце почему-то забилось чаще. Он чувствовал, как воздух вокруг стола стал плотнее, чем в остальном подъезде. Странное ощущение, будто там лежит не только книга, но и находится кто-то ещё. Он сделал шаг, второй. Шаги получились слишком громкими, подошвы шаркали по линолеуму.
Он протянул руку и положил пальцы на обложку. Дерево под тканью было тёплым, как если бы книга только что лежала на чьих-то коленях. Он медленно открыл её. Страницы распахнулись, мягко шелестя. В нос ударил знакомый запах: бумажная пыль, немного чернил, немного старого клея. И совсем чуть-чуть соли, той самой, что приносит в дом ветер с воды.
Страница, на которой была его фамилия, нашлась быстро. Савва посмотрел на свою строку. В графе «выбытие» по-прежнему пусто. Рядом с его именем значились мама и отец, их двоих книга держала крепко.
Он провёл пальцем по графам, словно пытаясь убедиться, что буквы настоящие. Потом перевёл взгляд на соседние строки. Фамилии сменяли друг друга, как пассажиры в автобусе. Между ними иногда стояло слово «умер». Иногда «выбыл». Напротив некоторых «умер» приписано: «в таком-то году». Рука писавшего не всегда была одной и той же.
Он пролистал дальше. Страницы шли по годам, как ступени. В конце книги были почти пустые развороты, где имена появлялись редко. Дом старел, людей в нём становилось меньше. Последние записи были свежие: кто-то выписался неделю назад, кто-то родился прошлой весной.
На одном из этих почти пустых разворотов одна графа с именем была недозаполненной. Рука, видно, остановилась на полуслове. У Саввы мелькнула мысль, что это похоже на свободное место в тетради, куда можно незаметно для учителя дописать что-то своё. Он посмотрел в сторону лестницы. Баба Лида не возвращалась. Дверь на улицу была закрыта, звук шагов не поднимался.
На столе лежала ручка на цепочке. Он взял её. Пластмасса была тёплой. Железная цепочка гулко звякнула о край стола. Это лёгкое звяканье показалось слишком громким. Савва затаил дыхание. Ничего не произошло. Дом молчал.
Он поднёс ручку к пустой строке. Сердце билось так, как будто он собирался совершить страшное преступление. В голове пронеслось: «Нельзя. Нельзя так. Это документ. Тебя за это…» А другая часть шептала: «Это только буквы. Всего лишь графа. Ты же не по-настоящему. Просто посмотришь, что будет».
«Кого не записали, того как будто и нет», – всплыло в сознании дрожащим голосом бабы Лиды.
Он написал сначала фамилию. Рука дрогнула, но буквы вышли похожими на те, что были раньше. Он видел, как в школе иногда подделывают подписи родителей, и теперь сам чувствовал себя таким же. Потом приписал имя и отчество. Денис. Полностью. Каждую букву выводил медленно. Чернила ложились ровно, линия не прерывалась, будто ручка была рада наконец-то поработать по-настоящему. В графе «год рождения» он наугад выставил цифры. Он не знал точно, но посчитал, что разница в два года особой роли не сыграет. Вспомнил, как вчера от одноклассников слышал: «Ему тринадцать скоро». Поставил нужный год.
Графу «вселение» оставил пустой. Что-то внутри упиралось. На графе «выбытие» рука дёрнулась и остановилась. Его охватил холод. Писать там казалось уже совсем неправильным. Словно он не просто тренируется, а подписывает приговор. Пот выступил на ладонях. Ручка соскользнула. Он положил её обратно, цепочка зазвенела.
Савва смотрел на строку с именем и чувствовал, как его тянет назад, к двери собственной квартиры. Ему хотелось стереть написанное. Но здесь был не карандаш. Чернила впитывались в бумагу, как вода в губку. Он провёл пальцем по имени. Ничего не смазалось. Ощущалась только лёгкая шероховатость, как будто буквы уже давно были здесь.
В груди что-то сжалось. Стало стыдно. Не перед Денисом – перед домом. Казалось, что старые стены в курсе того, что он делает, и смотрят на него из темнеющих углов.
Со второго этажа послышались шаги. Савва вздрогнул и закрыл книгу, почти не глядя. Переплёт хлопнул. Он поставил ручку точно на её место, выровнял, стараясь, чтобы выглядело, как было. Баба Лида поднялась по лестнице, отряхивая с валенок снег.
– Ты чего тут? – спросила она, не строгим, обычным голосом.
– Ничего, – ответил он. – Просто смотрел.
– Смотри, смотри, – проворчала она и поправила платок. – Хорошо, когда дети к книгам тянутся.
Она села, придвинула домовую ближе к себе, но не стала открывать. Савва уже бежал по коридору к своей двери. Он чувствовал, что если задержится ещё хотя бы на минуту, то не выдержит и попросит её открыть книгу и посмотреть на последнюю запись. Этого он боялся больше всего.
В квартире пахло супом и мокрыми варежками. На кухне кто-то оставил радио включённым. В динамике тихо бормотали новости. Савва сел на табурет, поджал ноги. Мысли не давали покоя. Он слушал радио не ушами, а рукой, которой только что писал. Ему казалось, что рука ещё хранит форму букв.
– …на набережной опять, говорят, перекрыли дорогу… – говорили из динамика. – …ветер усилится к ночи… – …в акватории порта судно встало на ремонт…
Он не слышал половину фраз. Только потом вдруг уловил: «…на стройплощадке у дома Грачевских пострадал подросток…».
Слова таяли, диктор уже переходил к следующей новости, но эти успели зацепиться.
«Пострадал подросток».
Савва вскочил. Он не помнил, как добежал до окна. На улице дальше, у забора стройки, мигали фары «скорой». Снегоочиститель стоял в стороне, люди в оранжевых жилетах сгрудились. Кто-то выкрикнул слово, которого он не разобрал. Мимо прошла соседка и быстро перекрестилась, глядя в ту сторону.
Савва прилип лбом к стеклу. Холодная поверхность отрезвила. Он не видел самого места, где случилось несчастье, мешал забор. Только свет мигал, красное и белое отражалось в талых пятнах на асфальте. Ветер принёс обрывок фразы: «…с лесов упал…», потом ещё: «…звали Денис…».
Он отшатнулся. В груди стало пусто. Не как перед двойкой, а как перед дырой во льду. Руки затряслись. Губа снова заболела, хотя физически рана почти прошла. Он закрыл глаза, надеясь, что всё исчезнет, если не смотреть.
Радио продолжало говорить о чём-то ещё. Вода закипела в чайнике и загремела крышкой. Кошка, сидевшая на подоконнике, выгнула спину и спрыгнула на пол, раздражённо замурлыкала. Всё вокруг продолжало жить так, будто ничего особенного не произошло.
Только в голове у Саввы возникла чёткая, как линии в тетради, мысль: «Я написал. Теперь его как будто нет».
Он тут же попытался себя одёрнуть. Несчастные случаи бывают. Люди падают с лесов. Это не из-за него. Это всё совпадение. Так говорят взрослые, когда хотят успокоить. Но внутри совпадение сидело совсем по-другому. Оно не успокаивало.
Перед глазами снова возникла домовая книга. Пустая строка, его буквы, впитывающиеся в бумагу. Он мысленно видел, как переплёт чуть вздымается, как дом вздыхает.
В тот вечер он не стал рассказывать маме. Не потому, что боялся наказания, хотя и этого боялся. Он не знал, какие слова подобрать, чтобы взрослые не посмотрели на него сначала с раздражением, а потом с жалостью. Жалости он не выносил.
Ночью ему долго не удавалось уснуть. Дом потрескивал. Трубы вздыхали. За стеной ругались соседи, но уже уставшим, затихающим голосом. Он слышал, как внизу хлопают подъездные двери. Всё это было привычно, как щербинки на тарелках. Однако в каждом звуке теперь слышался вопрос: «Кто здесь теперь есть, а кого уже нет?».
В какой-то момент ему показалось, что он слышит тихий шорох страниц. Словно кто-то листает книгу очень медленно. Домовая лежала на втором этаже, за закрытой дверью. Но звук был рядом, у изголовья кровати. Ритмичный, но такой лёгкий, что можно было принять его за ветер. Савва накрылся одеялом с головой. В детстве это помогало, когда он боялся темноты. Сейчас темноты он не боялся. Он боялся того, что сделал.
«Если я не буду об этом думать, – повторял он про себя, – всё пройдёт. Это просто бумага. Просто чернила».
Шорох не прекращался. Может быть, это скрежет батареи. Может быть, это дерево на улице цепляет ветками стену. Он уговаривал себя любыми объяснениями. По одну сторону объяснений жил ребёнок, который случайно увидел связь, по другую – дом, который вдруг проявил характер.
Перед самым сном ему вспомнились слова бабы Лиды: «Кого дом записал, с того спрос особый». Но в книге записывал он. Не дом. Значит, спрос теперь с него.
Он уснул под эту мысль. И она же осталась с ним надолго. Настолько надолго, что через годы, когда он уже станет другим человеком, будет носить чёрный подрясник и читать над людьми молитвы, он всё равно иногда будет слышать, как в тишине листаются страницы. И каждый раз вспоминать мальчика, который однажды написал чужое имя туда, где его не должно было быть.
Тогда, в тот первый день, дом не проговорил ничего вслух. Но если бы у него был голос, он, возможно, сказал бы только одно:
«Я запомнил».
Глава 1. Поступление книги
Ноябрь пришёл в город по‑северному тихо и настойчиво. Он накрыл набережную шероховатым стеклом тумана, затёр краски вывесок, закрыл дальними серыми створками море. Краны на берегу застыли, как птицы с закованными крыльями. Вечер углублялся рано, не интересуясь расписаниями, и свет из редких окон казался не уютом, а сигналами, которые кто‑то подаёт в пустоте. Тонкий дождь обходил парапеты и каменные ступени, находил все щели и набирался терпения, чтобы лить до утра.
Архив располагался в старом городском доме у конца сквера, в здании, которое в дореволюционные годы принадлежало консульству, потом школе, потом военному комиссариату. В нём перемешалось дыхание десятилетий: запах олифы и печного кирпича, порошковая пыль от побелки, запоздалая сладость чернил. В высоких коридорах эхо откликалось неохотно, будто идти по ним полагалось неторопливо, и даже шаги обязаны были соблюдать установленные здесь правила.
Анна Клемёнова возвращалась из читального зала в свой кабинет, неся в ладони тонкую кость чайной чашки. За окном стекало серое движение. От улицы тянуло морской солью, которая в этом городе успевает проникнуть всюду, даже в коробки с нитками, в шкафы с полотном, в потайные кармашки сумок. Анне нравился этот запах, хотя она и не могла назвать его любимым. Она предпочитала внимательность, которую соль навязывала вещам, и слышала, как железо неизбежно уступает, как древесина старых шкафов набухает и снова сжимается, как бумага втягивает в себя влагу и неспешно с ней договаривается.
На её столе ожидала линейка из вишнёвого дерева и круглая лупа, тяжёлая, с холодной оправой. Лампа с зеленоватым абажуром опустила световую чашу на стопку карточек. Анна поставила чашку с чаем на край, посмотрела на часы и подумала, что до закрытия остаётся больше получаса. Этого хватало, чтобы дописать опись поступлений за неделю, разобрать два письма, ответить Нине и ещё немного послушать, как шуршат стены, когда за ними туман становится плотнее.
Нина заглянула в дверь без стука. У неё была привычка возвращаться с улицы со следами дождя на чёлке, как будто капли задерживались там специально. Она сняла серый шарф, стряхнула капли на коврик у порога и улыбнулась.
– На вахте для тебя бандероль, – сказала она. – С утра звонили из администрации, потом из фонда охраны наследия, потом из музея, все спрашивали, доставили ли уже. Теперь точно добралась.
Анна подняла взгляд. Разговоры про доставку начались ещё неделю назад, и у каждого в собеседниках был кто‑то свой. Девелопер просил ускорить. Активисты просили замедлить. Кто‑то требовал экспертизы. Все знали, что дому Грачевских осталось недолго. Это слово Анна старалась не произносить, потому что за ним слышалось другое слово, которое звучало грубее и точнее. Снос.
Она кивнула Нине. Той было достаточно этого жеста, чтобы раствориться в коридоре. Анна допила чай, надела тёплый жилет, хотя было не холодно, и пошла вниз. На лестнице свет от окон сжимался в длинные прямоугольники и ложился на ступени темноватыми акцентами, как короткие глухие аккорды, которые кто-то повторяет на одних и тех же клавишах нижнего регистра. У вахты пахло мокрой резиной и новыми коробками. На широком столе лежала бандероль размером с альбом. Шнур был перехвачен трижды, вязь узлов выглядела серьезнее, чем требовалось для городских пересылок. На обёртке стоял штамп с датой и позеленевшая от старости печать жилищного отдела, её наверняка использовали для придания событию торжественности, хотя толку от этого было мало.
– Расписаться тут, – сказал вахтёр, перевернув книгу. Он был человек старого, вынужденного порядка, посторонние разговоры с ним не получались. – Сверьте вложение.
Анна постучала пальцем по картону. Тот ответил мягко, как если бы внутри лежало нечто живое и настороженное. Она перекрестила нитку и сняла узел. Запах, поднявшийся из‑под обёртки, действительно был солью, но соль здесь не играла роли приправы. Скорее это была старая морская корка, которая появляется на камнях, когда прилив приходит слишком далеко и не успевает сойти. Анна взглянула на тонкие высветленные кристаллы на шнуре и подумала о бабушкиной кухне, где соль хранили в бумажном пакетике, завёрнутом в полотняный кусочек, и как этот пакетик всегда находил своё место в углу буфета, будто там у него была прописка.
В бандероли оказался твёрдый том в выцветшем переплёте, обтянутый тонким коричневатым полотном. Оно было чистым, но эпоха выглядывала из‑под ногтя поддельного лака, и углы давали себя выдать. Название было выбито горячим шрифтом, буквы немного подсели, но ещё держались: «Домовая книга. Усадьба Грачевских». Чуть ниже печатью стоял номер. Анна провела пальцем по выемкам, почувствовала тёплую шероховатость названия, и на секунду ей показалось, что она гладит жилистую спину большого осторожного зверя.
Она забрала том на верхний этаж, в читальный зал, где никто уже не сидел. С тех пор как начались разговоры о переносе фондов в современный просторный центр, некоторые постоянные читатели пропали. Остались отчаянные: генеалоги с обложками, улыбчивые городские краеведы, одна женщина из театра кукол. Сегодня никого не было. Анна включила лампу и положила книгу на стол. Лупа легла рядом, как тяжёлая пуговица.