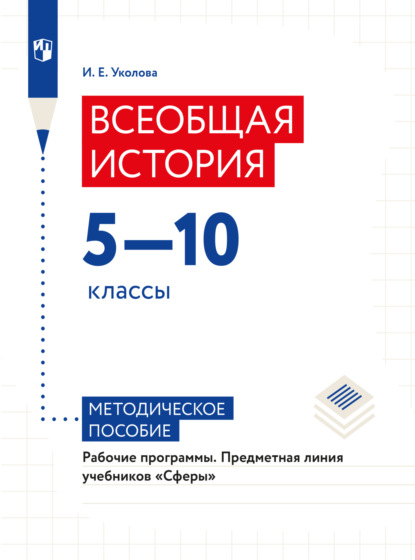Герой романа — известный писатель Пётр, который, столкнувшись с экзистенциальным кризисом, пытается написать последний и, как ему кажется, главный роман, ветви повествования которого — реальная и вымышленная, переплетаются фантастическим образом. В это же время в его жизни появляется незнакомка, поклонница его таланта, которая не только начинает влиять на судьбу героев ещё не написанного романа, но и оказывается напрямую связана с происходящими на его страницах событиями.
Книга содержит нецензурную брань.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация