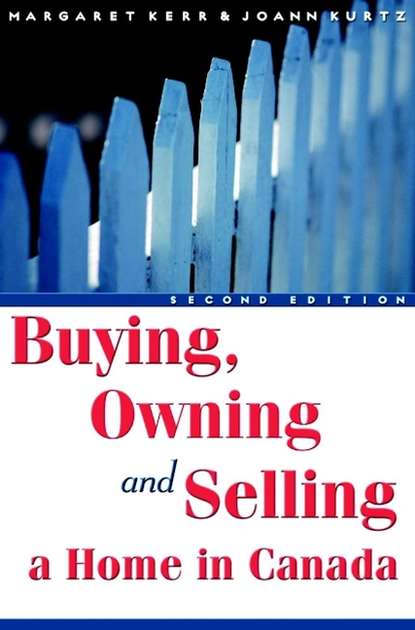Апрель, которого не было
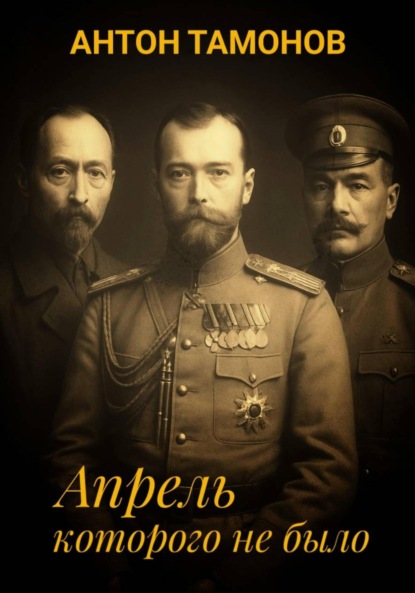
- -
- 100%
- +
Внезапно Дзержинский схватился за голову, выронив свой браунинг. Оружие глухо стукнуло о каменный пол. Его пальцы впились в виски, судорожно сжав кожу.
– Молчи! Ты… ты всё запутываешь! – Он закашлялся, согнувшись пополам. Кашель сотрясал его худое тело, отдаваясь хриплым эхом в каменном чреве крипты. Капли слюны смешались с кровью на его губах. Когда он выпрямился, в уголках рта блестела розоватая пена. Его дыхание стало свистящим, прерывистым.
Влад отступил на шаг, прислонившись спиной к холодной монастырской стене. Запах ржавчины и сырости ударил сильнее, смешавшись с металлическим привкусом крови в воздухе. Он почувствовал, как под ногой что-то хрустнуло – осколок старой кости или фарфоровой черепицы? Его рука непроизвольно сжала портсигар так, что острые края впились в ладонь. Боль была острой и ясной, как звон колокола.
– Мы… говорим… свобода… хлеб… – голос Дзержинского сорвался в хрип. Он шатнулся, опираясь на груду обломков. Его пальцы, костлявые и дрожащие, впились в плесневелый кирпич. Свист в легких напоминал ветер в дымоходе трущоб. – Ты… царь… обещаешь хлеб? Когда твои поезда с зерном гниют на запасных путях… а у булочных… очереди… дети… – Он не договорил, снова закашлявшись. Розовая пена капнула на плиты пола рядом с браунингом.
Влад резко шагнул вперёд, подняв фонарь выше. В его свете лицо Дзержинского было серым, как пепел, измождённым до предела. Глаза, ещё минуту назад горевшие фанатизмом, теперь смотрели сквозь него, в какую-то невидимую пропасть. Тени под ними казались синяками. Капли пота смешивались с кровью на подбородке, стекая на воротник рубахи. Влад поднял фонарь еще выше, луч вырвал из мрака контуры черепа под кожей, резкие линии скул, дрожащие губы. Глаза, минуту назад полые пламенем ненависти и убеждений, теперь казались пустыми, стеклянными, устремленными куда-то за спину Влада, в черноту…
– Феликс? – тихо спросил Влад. Звук его голоса был неестественно громким в гробовой тишине крипты, отдаваясь эхом от сырых плит.
Дзержинский вздрогнул, как от удара. Его тело согнулось в судороге – не от кашля, а от внезапного физического усилия, будто он пытался удержаться на краю этой пропасти, куда только что смотрел. Пальцы его правой руки впились в кирпичную кладку стены, левая все еще сжимала браунинг. Он застонал – короткий, глухой звук, похожий на стон раненого зверя. Его взгляд медленно, с трудом фокусируясь, вернулся к Владу. В глазах уже не было ненависти. Было что-то другое. Шок? Пустота? Или… признание неотвратимости?
Он медленно опустил руки, уставившись на свои ладони – пустые, дрожащие. Пальцы судорожно сжались в кулаки, потом разжались снова. Браунинг лежал где-то в темноте у его ног, забытый. Его дыхание, свистящее и хриплое, заполняло пространство между ними, единственный звук кроме их сердец, колотящихся в такт падающим каплям влаги со сводов.
Влад не двигался. Фонарь освещал эту метаморфозу: фанатик исчез, остался человек, сбитый с толку и смертельно уставший:
– Ты пришёл сам, Феликс. Чтобы говорить, – Дзержинский поднял на него глаза. В них не было ненависти, только глубокая, изматывающая пустота:
– Говорить? – Он усмехнулся горько, – о чем? О хлебе, которого нет? О мире, который ты проиграл? – Он прислонился к сырой стене, будто ноги больше не держали, – я.… я не спал трое суток. Бегал от твоих казаков… От своих… Всех. – Он закрыл глаза. – Голоса… Они не умолкают. Кричат о предательстве. С обеих сторон…
Влад опустил фонарь ниже. Свет мягче лёг на лицо Дзержинского, подчеркнув морщины усталости.
– Голоса голодных, уставших от войны, звучат громче, Феликс. Их слышно не только на Сухаревке. В каждом переулке. Ты слышишь?
Дзержинский открыл глаза:
– Слышу, – шёпот был почти неразличим, – они кричат… а я… Что я могу? – Он бессильно махнул рукой.
– Ты можешь помочь их накормить, – сказал Влад твёрдо, – вместо того, чтобы поджигать склады.
Дзержинский резко вскинул голову:
– Ты знаешь? – Влад кивнул, – Греков докладывает. Группа твоих… товарищей. Готовят поджог хлебных амбаров на Каланчёвке. Чтобы спровоцировать новый бунт против меня, – он сделал шаг ближе:
– Ты хочешь этого? Ещё больше голодных детей? Ещё больше трупов на мостовых?
Дзержинский сжал виски пальцами:
– Нет… Они… Они думают, это ускорит…
– Ускорит что? Ад? – перебил Влад, – его голос зазвенел в каменной темноте, ты умный человек, Феликс. Ты видишь разницу между идеей и кровью, которую за неё льют. Между свободой и анархией, – он указал фонарём наверх. – Там, на площади, люди ждут хлеба, а не лозунгов. Им нужен порядок, а не новые баррикады. Дзержинский молчал. Его дыхание стало чуть ровнее:
– Что ты предлагаешь? – спросил он наконец, голос хриплый, но уже без прежнего безумия.
Где-то сверху, в соборе, гулко ударил колокол. Раз. Два. Три. Полночь. Звук проник сквозь камень, тяжёлый, как погребальный звон. Дзержинский вздрогнул, зажмурился. На мгновение его лицо стало маской чистой боли. Влад не отводил фонаря.
– Колокол… – прошептал Дзержинский, открывая глаза. В них мелькнуло что-то детское, потерянное, – …звонит. Почему? Влад знал ответ: Калмыков. Сигнал. Что всё готово. Что ждут. Но он сказал иное:
– По павшим. По тем, кто сгнил здесь, – он двинулся к груде костей у стены. Фонарь выхватил ржавую пряжку на истлевшем ремне.
Дзержинский молчал. Он смотрел на брошенный браунинг, лежавший в лужице. Его рука дрогнула, потянулась к нему… и замерла.
– Я.… не могу больше стрелять… – признался он вдруг, голос сорвался: – Голова… гудит. Всё время, – он прижал ладони к вискам. – Твои казаки… их крики… они не замолкают…
Влад подошёл ближе. Шаг. Ещё шаг. Расстояние сократилось до вытянутой руки. Запах дешёвого махорки смешивался с запахом страха – кислым, человеческим.
– Ситуация чрезвычайная… – Влад выдержал паузу, глядя в тёмные впадины глаз Дзержинского, где горел только остаток фанатизма, почти затопленный усталостью. Фонарь в его руке оставался неподвижным, луч упёрся в ржавую пряжку на груде костей. – …требует чрезвычайных мер, только и всего. Ты пришёл со своим браунингом, чтобы убрать мусор? Хорошо. Но мусор – это не я. – Фонарь дрогнул, луч скользнул вверх, выхватывая череп с пустой глазницей. – Это – страх. Хаос. Банды и мародёры, которые фактически взяли власть…Эти, которые временные, они думали, что скинут царя и станут главными? Это не так… Главными стали убийцы, жулики и проходимцы всех мастей, которые прикрываясь идеалами грабят… кто-то, кто помельче, грабят погреба, а кое-кто, хочет по-крупному… Страну хотят разорвать на куски и продать по кускам британским лордам или кому ещё…И это всё, чего добились те, кто сейчас сидит в Таврическом в Питере и выдаёт указы.
Дзержинский молчал. Он стоял, опираясь о сырую стену крипты, его худое тело казалось тенью в свете фонаря. Кашель снова подкатил к горлу, сухой, надрывный. Он подавил его, сжав кулаки до побеления костяшек.
– Ты… ты предлагаешь… что? – слова вырывались с трудом, каждое – как нож в горле.
– Порядок, – ответил Влад чётко. – Железный. Беспощадный. Но порядок. Хлеб – в пекарни. Патроны – на фронт. Предателей – к стенке. Спекулянтов – на виселицу, – он указал фонарём вверх, туда, где был город. – Твои подпольщики… они знают каждый сарай, каждый подвал в Москве. Знают, где прячут зерно. Знают тех, кто торгует оружием с дезертирами, – Влад сделал последний шаг. Теперь они стояли лицом к лицу. – Помоги мне их найти. Не ради меня. Ради тех, кто на Сухаревке. Ради тех людей, которых ещё можно спасти.
Дзержинский закрыл глаза. Его лицо было пепельно-серым в свете фонаря.
– Предать… всё… – прошептал он.
– Не идею, – резко оборвал Влад, предать кровь и хаос. Предать тех, кто прячет хлеб, пока дети пухнут. – Он опустил голос почти до шёпота: – Ты хочешь строить новый мир? Начинай с фундамента. А фундамент – это не баррикады из трупов. Это хлеб на столе и крыша над головой, – он протянул руку – пустую, ладонью вверх. – Помоги мне остановить поджог Каланчёвки. Прямо сейчас. Потом… потом решим остальное.
Сверху донесся приглушённый крик – человеческий, короткий, оборванный. Потом выстрел. Один. Дзержинский вздрогнул, инстинктивно потянувшись к оружию, но рука дрогнула, не дотянулась. Его глаза метнулись к ступеням, ведущим вверх, в собор:
– Твои… чистят? – прошептал он. Влад кивнул. Он видел, как в глазах Дзержинского гас последний огонёк. Не фанатизм. Страх. За себя? За дело?
– Люди… они же не знают…что ты задумал… – пробормотал Дзержинский, отступая к стене, задевая плечом череп в нише. Тот упал, разбился о камни с сухим треском.
– Они должны узнать, – холодно сказал Влад. Выбор, Феликс. Уйди. Или… начни делать то, к чему ты шел всю жизнь.
Дзержинский замер. Его дыхание стало поверхностным, частым. Он посмотрел на свои руки – тонкие, дрожащие, испачканные копотью и кровью. Потом на Влада. На его спокойное, непроницаемое лицо в свете фонаря. На складку мундира, где угадывался тяжёлый контур нагана.
– Убрать мусор… – он повторил слова Влада, словно пробуя их на вкус. Голос был хриплым, но уже без истерики. Пустота. – Я.… не могу уйти. Ты прав. Я утонул, – его глаза встретились со взглядом Влада. Не страх. Не фанатизм. Усталое понимание, что другого выхода нет. Его рука медленно поднялась – не к оружию. К портсигару в руке царя. Дрожали пальцы. Замок щёлкнул. Одна папироса. Он протянул её к огоньку фонаря. Табак затрещал, вспыхнул красной точкой во тьме. Первая затяжка была глубокой, с судорожным кашлем. Потом выдох – струйка дыма смешалась с сыростью крипты.
– Дай мне… дай мне тот пистолет. Твой.
Влад не двинулся. Луч фонаря дрожал на худой, испачканной ладони Дзержинского.
– Зачем? – спросил он ровно, – чтобы застрелиться? Или меня? Дзержинский покачал головой. Коротко, резко.
– Чтобы… выбрать. Самому, – его пальцы сжались в воздухе, – ты же дал выбор. Уйти или… убирать. Я не могу уйти. Значит… убирать. Но своим оружием… – Он кивнул на браунинг у ног. – Оно… предало. Клинит. После… после Тверской, – в его глазах мелькнуло что-то страшное – не раскаяние, а физическое отвращение к самому себе, к тому, что он сделал, к тому, что держал в руках.
– Знаешь, Феликс… – начал Влад медленно, голос низкий, почти сливающийся с капающей водой и далеким гулом города над склепом, – …если хочешь сделать чистую работу… Он медленно, с преувеличенной осторожностью, словно показывая движения глухому, опустил фонарь на груду обвалившейся штукатурки. Желтый свет уперся в стену, оставляя их лица в полумраке, освещенные лишь отблесками, – …то надо брать инструмент, которому доверяешь. – Его рука скользнула за пояс, к деревянной рукояти нагана. Он вытащил его не спеша – тяжёлый, матово блеснувший в слабом свете. Не направляя. Просто держал в открытой ладони, как вещь саму по себе, – …и знать, что он не подведёт. Ни в чём, – он повернул револьвер, чтобы Дзержинский видел аккуратно вбитые клейма на рамке, идеально подогнанные патроны в барабане, – это не просто кусок железа. Это… слово. Которое не ломается.
Дзержинский не сводил глаз с оружия. Его худое лицо было неподвижным, лишь мышцы на скулах напряглись, будто он стискивал зубы. Его собственная рука, все еще протянутая в пустоту, дрожала теперь почти незаметно:
– Слово… – прошептал он, и в этом шёпоте была горечь, смешанная с каким-то почти голодным любопытством, -…которое убивает. – Его взгляд скользнул от нагана к лицу Влада, ища там подтверждения или опровержения. – Ты… ты говоришь о порядке… а предлагаешь смерть? Тот же инструмент? Только… твой? – Он сделал шаг вперед, его тень на сырой стене стала огромной и угловатой. Запах махорки смешался с запахом сырости и пороха от недавнего выстрела сверху. – Где же справедливость в этом, Николай Александрович? В том, чтобы твоя пуля была чище моей?
– Справедливость? – Влад перебил Феликса, произнес слово тихо, но оно отозвалось в каменных стенах крипты, как удар маленького молоточка. Он сделал шаг назад, создавая пространство, дистанцию охотника, наблюдающего за зверем в капкане. Фонарь в его руке опустился чуть ниже, луч скользнул по полу, высветив брошенный браунинг в лужице и ржавую пряжку на костях. – Ты ищешь ее среди тех, кто видит лишь кровь и хаос. Борешься с ветряными мельницами глупости и алчности, Феликс. – Его голос был низким, почти сливающимся с капающей водой где-то в темноте. – А они… они просто перемалывают тебя. Фонарь дрогнул, высвечивая тень Дзержинского, прижавшегося к стене из костей. Он выглядел внезапно маленьким, потерянным в огромном, мешковатом пальто. – Справедливость не в фанатичной идее, Феликс. Она в хлебе, который доходит до ребенка на Сухаревке. В солдате на фронте, который знает, что пули к нему придут вовремя. В том, чтобы спекулянт, скупивший зерно пока люди голодали, ответил за это не перед революционным трибуналом, который сам продажен, а перед законом, который работает. Беспощадно. Для всех.
Сверху донесся новый звук – не выстрел, а глухой удар, словно что-то тяжелое упало на каменный пол собора. Потом – тишина. Глубокая, звенящая. Дзержинский вздрогнул, его глаза, широко открытые в полумраке, метнулись к ступеням.
– Что они там…? – начал он, но замолчал, услышав собственный голос – хриплый, сдавленный. Страх. Не за идею. За тех, кто мог быть убит сейчас, над их головой. За тех, кого он когда-то называл братьями. Его рука инстинктивно потянулась к брошенному браунингу у ног. Пальцы скользнули по холодной рукояти, обхватили её. Попытка поднять оружие превратилась в мучительную пытку. Мускулы запястья дрожали мелкой судорогой, как у пьяницы. Палец скользил по гладкому металлу курка, не находя упора, не чувствуя силы сжать его. Пистолет был тяжелым камнем в слабой руке. Он стиснул зубы, втянул воздух со свистом – и бросил браунинг обратно в грязь с коротким, бессильным стоном. Оружие шлепнулось в лужу, брызги копоти и воды попали на его брюки. Он стоял, согнувшись, опираясь ладонями о колени, дыша часто и поверхностно. Лицо в свете фонаря было пепельным, пот стекал по вискам. Не фанатик. Не мститель. Изможденный человек, уткнувшийся в тупик собственных убеждений.
Влад молчал. Его фонарь был неподвижен, луч упёрся в браунинг в луже, отражая маслянистые разводы на воде вокруг него. Он видел дрожь в плечах Дзержинского, слышал прерывистое дыхание. Выбор был сделан. Не словами. Этим жестом отчаяния. Человек, пришедший убить царя, не смог поднять оружие даже против призраков собственного прошлого. Влад медленно опустил руку с наганом. Тяжелый револьвер исчез за поясом мундира, скрытый складкой сукна. Его движение было плавным, лишенным угрозы. Он сделал шаг в сторону, к груде кирпичей и обломков штукатурки у стены.
– Это твой выбор, Феликс, – Влад указал на валяющийся браунинг кончиком фонаря. Луч скользнул по мокрой рукояти, по забитому грязью патроннику. – Оружие… оно как слово. Если ломается – выбрасывай. Бесполезно. – Его голос был низким, почти монотонным, но в нем не было презрения. Только констатация факта.
Сверху раздались шаги – тяжелые, мерные. Не спеша. Два… три… Калмыков. Дзержинский вновь схватил свой браунинг, вжался в стену, направляя свое оружие теперь на темный пролет лестницы. Его палец белел на спусковом крючке.
– Не стрелять, Калмыков! – приказал Влад тихо, но железно, – еще десять минут. Шаги замерли. Наверху ждали.
– Иногда, Феликс, – голос Влада был низким, почти ласковым в гробовой тишине склепа, – судьба делает неожиданный поворот. Как шальная пуля рикошетом, – он медленно поднял пустую руку, ладонью к Дзержинскому – жест не угрозы, а.… предложения. Фонарь в его другой руке освещал только их лица и мерцающий металл браунинга в дрожащей руке Феликса. – Ты всю жизнь стремился к порядку. К железной справедливости. Ты строил ее на пепле и крови, но она рассыпалась, потому что фундамент был гнилой, – он сделал паузу, позволив словам осесть, я даю тебе право выбора здесь и сейчас, Феликс. Простое. Честное, – уго глаза, холодные и ясные, не отрывались от запаниковавших глаз Дзержинского. – Поднять дуло… и выстрелить. Он кивнул на браунинг. – В меня. В себя. Вверх, в темноту – неважно. Закончить это. Или… Влад протянул руку чуть дальше, ладонь открыта, устойчива, – …положить в нее оружие. И пойти со мной. Делать то, к чему ты так стремился всю жизнь. По-настоящему. Без самообмана.
Дзержинский замер. Его дыхание стало прерывистым, свистящим. Он смотрел на протянутую руку Влада, потом на браунинг в своей собственной руке – тяжелый, ненадежный, но смертоносный. Потом на ступени, где Калмыков ждал в темноте. В его глазах мелькали тени прошлого – пламенные речи в подпольных кружках, холодные камеры Шлиссельбурга, лица расстрелянных по его приказу, крик на Тверской… И лицо Влада сейчас – спокойное, уверенное, предлагающее выход из лабиринта его собственного ада.
– По-настоящему… – прошептал он, и голос сорвался. Его рука с наганом дрогнула сильнее. Он закрыл глаза на мгновение, будто пытаясь заглушить внутренний вой. Когда открыл – в них уже не было паники. Была пустота. И решение. Он резко опустил дуло браунинга вниз, к полу. Пальцы разжались. Оружие глухо стукнуло о каменные плиты, отскочило и замерло у ног Влада. Дзержинский не смотрел на него. Он смотрел только на протянутую руку императора. Его собственная рука медленно поднялась – тонкая, бледная, испачканная. Она зависла в воздухе, дрожа, не решаясь коснуться. – Я.… утонул… – выдохнул он снова, но теперь это было признание, а не отчаяние, – но ты… ты можешь вытащить? – Его пальцы почти коснулись ладони Влада.
– Да, – Влад ответил коротко. Не на вопрос, а на немой крик в глазах Дзержинского. Его рука не дрогнула. Она просто сомкнулась вокруг худой, холодной кисти Феликса с силой, не оставляющей сомнений – не сострадание, а захват. Он потянул Дзержинского к себе, отрывая от стены из костей. Тот шагнул неуверенно, почти спотыкаясь, его тело казалось внезапно лишенным костей.
– Калмыков! – бросил Влад вверх по лестнице, не отпуская руку Дзержинского, – комнату для Князя Дзержинского… в северной башне. Чистую. С видом на город. – Сверху донесся глухой звук – сапог по плитам. Согласие. – И.… прикажи принеси ему чаю. Крепкого. С сахаром.
Они вышли в низкий, сводчатый коридор. Воздух здесь был чуть суше, пахнул старой пылью и маслом от фонарей. Калмыков стоял у тяжелой дубовой двери, вмурованной в толстую стену. Его лицо в свете керосиновой лампы было непроницаемо, но взгляд скользнул по Дзержинскому – по его запачканному пальто, по руке, все еще сжатой в железной хватке Влада, по лицу, где застыла пустота после бури.
– Комната готова, Ваше Императорское Величество, – отчеканил он. Дверь со скрипом отворилась внутрь.
Дзержинский шагнул первым, как слепой. Узкое пространство поглотило его: грубые каменные стены, узкая койка с серым солдатским одеялом, простой стол, тяжелое кресло с потертой кожей. На столе – глиняный кувшин с водой, оловянная кружка, жестяной чайник, от которого еще валил слабый пар, и пиала из темной керамики. Рядом лежал бумажный фунтик с щепотью сахарного песка. Крошечное окно-бойница, не шире ладони, открывалось в ночь. За ним лежала Москва – черные зубцы крыш, редкие желтые огоньки окон, купола церквей, едва различимые силуэты башен Кремля, все тонущее в густой, холодной синеве предрассветья. Влад почувствовал, как мышцы запястья Дзержинского под его пальцами внезапно ослабели, стали безжизненными. Он разжал хватку.
Феликс шагнул в комнату механически, остановился посредине. Он не смотрел на стол, на окно, на кровать. Его взгляд был устремлен куда-то внутрь себя или в пустоту каменной стены. Плечи ссутулились под незримой тяжестью, казалось, еще мгновение – и он рухнет.
– Оставь нас, – приказал Влад Калмыкову, и адъютанту, стоявшему за его спиной, не глядя на дверь. Тень в проеме молча скользнула наружу. Дверь прикрылась с громким, одиноким скрипом петлей в наступившей тишине. Влад подошел к столу. Шум шагов по каменному полу был единственным звуком. Он взял чайник, налил в пиалу. Темная, почти черная жидкость заструилась, пар поднялся густым, теплым облаком, пахнущим дымом и терпкостью. Он взял ложку, положил в пиалу два куска сахара из фунтика. Звук металла о керамику, когда он размешивал, был резким, отчетливым, почти болезненным в тишине.
– Сядь, Феликс, – сказал Влад. Не приказ, а констатация неизбежности.
Дзержинский медленно повернул голову. Его глаза, запавшие в темных впадинах, наконец сфокусировались. Не на Владе, а на пиале в его руке. На струйке пара. В этих глазах не было ни привычного огня фанатизма, ни ненависти, ни даже страха. Только глубокая, бездонная усталость, как у человека, прошедшего через ад и не нашедшего в нем ничего, кроме собственного отражения. Он сделал шаг к креслу, тяжелый, неуверенный, будто ноги не слушались. Опустился в него не садясь, а падая, всем телом. Его руки лежали на коленях ладонями вверх – пустые, безоружные, дрожащие мелкой, непрекращающейся дрожью. Пальцы судорожно сжимались и разжимались, ища чего-то, чего больше не было – рукояти нагана, листовки, пера. Только воздух.
Влад поставил пиалу перед ним на стол. Керамика глухо стукнула о дерево:
– Пей, – дымящаяся жидкость была почти черной, густой. Дзержинский не шевельнулся. Он смотрел на пар, поднимающийся из чая, словно видел в его клубящихся формах призраков прошлого: лица товарищей, исчезнувших в тюремных казематах; пламенные речи перед узким кругом верных; холодный блеск револьвера в руке палача; глаза ребенка на московской улице, полные немого укора. Его собственное отражение в темной поверхности чая было размытым, искаженным, чужим:
– Я.… развалился, – прошептал он наконец. Голос был хриплым, чужим, словно прорвавшимся сквозь ржавую трубу. Он не смотрел на Влада. Смотрел только на пар, на чай, на свои дрожащие руки, – там, внизу… я понял, – Пауза. Тишина давила тяжелее каменных сводов, – это не браунинг клинило. Клинило меня. Мою веру. Мою… железную волю, – он произнес последние слова с горькой, саморазрушительной насмешкой, как будто выплевывая их, – она оказалась ржавым гвоздем. Сгнившим.
Он поднял глаза на Влада. В них не было ни привычного огня, ни ненависти. Только пустота, выжженная дотла внутренним взрывом. Но и странная, леденящая ясность – как у человека, только что очнувшегося от долгого, кошмарного сна и увидевшего мир впервые без иллюзий. Его взгляд был тяжелым, вопрошающим, почти физически ощутимым.
– Зачем? – Слово повисло в воздухе, простое и страшное, – зачем ты это сделал? Дал выбор? Привел сюда? – Его взгляд скользнул к узкому окну-бойнице, к силуэтам спящего города, едва различимым в предрассветной синеве. Там, за стенами, бушевал хаос, который он сам помогал разжечь, – чтобы показать, как легко сломать того, кто ломает других? – Голос сорвался на последнем слове, став шепотом.
Влад откинулся на спинку простого деревянного стула напротив. Его лицо в тусклом свете лампы было спокойным, почти отрешенным:
– Нет, – ответил он тихо, но твердо. Его взгляд, холодный и проницательный, удерживал Дзержинского на месте сильнее любой хватки, – я все еще надеюсь увидеть «Железного Феликса». Того, что был. Того, кто мог бы снести горы упрямства одной силой воли. Не сломленного фанатика, а человека, способного выковать порядок из хаоса, – он сделал паузу, давая словам проникнуть сквозь толщу усталости и отчаяния. – Ты говоришь о ржавом гвозде? Ржавчина – лишь поверхность. Под ней все еще сталь, Феликс. Сталь, которую ты сам закалил годами тюрем, ссылок, борьбы. Я дал тебе выбор не для того, чтобы сломать. Я дал его, чтобы ты вспомнил – кто ты есть на самом деле. Не палач, не жертва. Кузнец. А кузнец не ломается от удара молота. Он им работает.
Дзержинский медленно поднял руки, уставился на свои ладони – тонкие, нервные, с синими прожилками вен под бледной кожей. Он сжал пальцы в кулаки, потом разжал. Дрожь не ушла, но в его глазах появился слабый, смутный огонек – не ярости, а концентрации. Как будто он впервые за долгие месяцы пытался ощутить собственное тело, свою волю:
– Кузнец… – повторил он шепотом, словно пробуя слово на вкус. Оно звучало чуждо, тяжело. Он потянулся к пиале, обхватил ее обеими руками, почувствовал жар керамики сквозь тонкий слой глазури. Поднес к губам. Сделал первый глоток – медленный, осторожный. Горячая жидкость обожгла горло, но он не отдернулся. Второй глоток был увереннее. Тепло разлилось по телу, отогревая ледяное оцепенение. – Сталь… требует огня, – пробормотал он, глядя на темную поверхность чая, а не подземной сырости, – его взгляд метнулся к Владу. – Что ты хочешь выковать, князь? Из меня? Из… этого? Он кивнул в сторону окна, за которым Москва начинала сереть перед рассветом.
Влад не ответил сразу. Он встал, подошел к узкой бойнице, впустил струю холодного, предрассветного воздуха. Город внизу был тих, лишь где-то далеко слышался скрип телеги:
– Я хочу выковать будущее, Феликс, – сказал он, не оборачиваясь. Голос его был низким, но несся четко в тишине комнаты, – не мое личное. Не твоей партии. Будущее России. Той, что стоит над схваткой кучки фанатиков и кучки воров, – он повернулся, его профиль четко вырисовывался на фоне светлеющего неба. – Ты знаешь подполье как никто. Знаешь, где гниль, где искренность. Знаешь, как строить структуры из ничего. Этого больше нет у тех, кто захватил власть сейчас в Петрограде. У них только хаос и страх, – он сделал шаг к столу, его тень накрыла Дзержинского. – Я предлагаю тебе снова стать Кузнецом. Но кузницей будет не подполье социал-демократов, как они себя называют, и не собрание вельмож, которые считают, что имеют власть от предков, которую имеют по-праву… и не кучка жуликов, которая хочет половить рыбку в мутной воде. Нужна истинная идея, не замутненная предрассудками левых, правых и Бог знает кого еще…