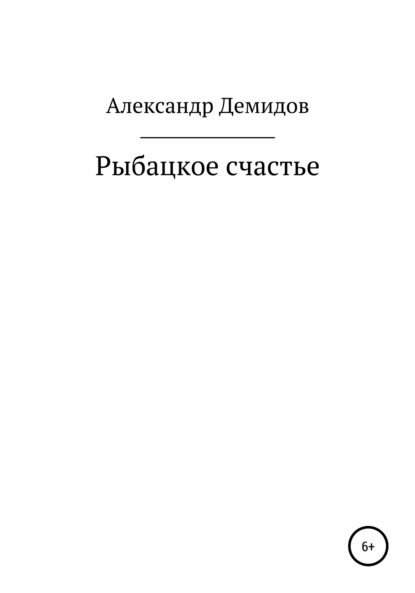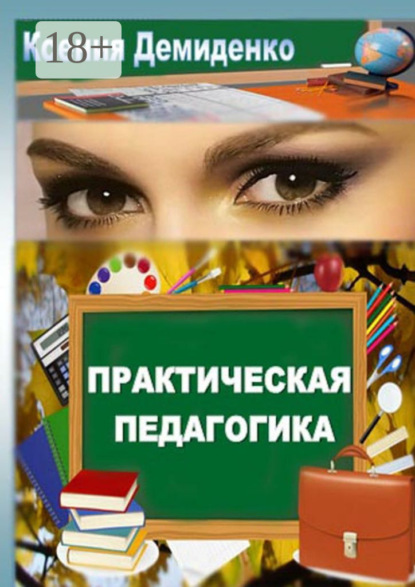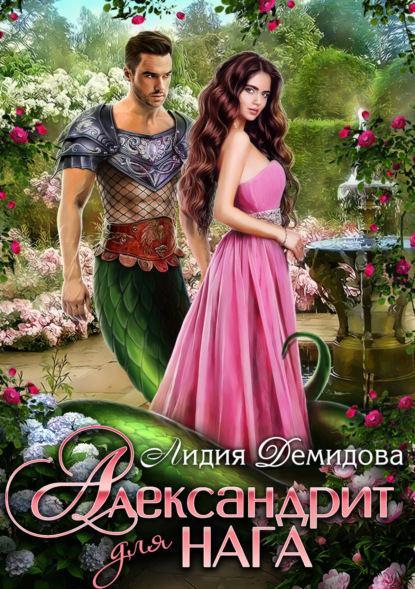Бабушка русского флота. Якорь воды
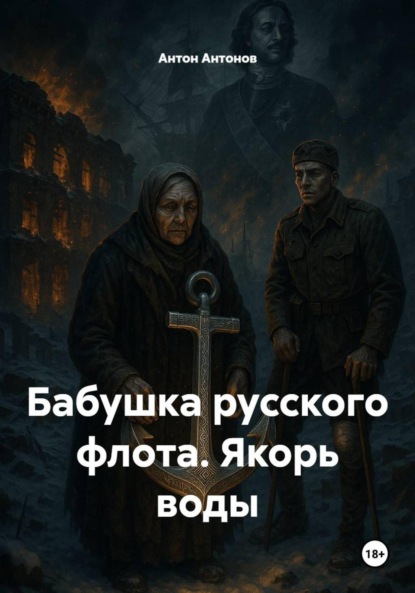
- -
- 100%
- +
Гаврила взял её руку – сухую, в старческих пятнах, но всё ещё сильную. – А если отказаться? Просто сжечь Штурвал и жить?
Она покачала головой. – Нельзя. Они уже здесь. В 2025-м. Письмо – только начало. Если я не уйду – они придут за мной. За тобой. За твоей дочкой. И перепишут всё. Полтаву. Сталинград. Победу. Россию. Я дала слово. Петру. России. И тебе – чтобы ты жил спокойно.
Картошка закипела. Она встала, посолила, добавила укропа из банки – тот самый, что сушила сама прошлым летом. Разложила по тарелкам, поставила на стол хлеб, масло, солёные огурцы. Последний ужин.
Они ели молча. Гаврила не чувствовал вкуса.
Потом она достала из шкафа бутылку – старую, с самогоном, который принесли соседи с хутора ещё в девяностых. Налила по стопке. – За Россию, – сказала она. – За тебя, бабуль, – ответил он.
Выпили. Не закусывая.
Гаврила встал, обнял её – крепко, до боли. – Я буду ждать. Каждый день.
Она поцеловала его в лоб – как целовала раненых мальчишек в 1942-м, как целовала Петра на прощание в 1709-м. – Живи, внучек. И помни: флот без бабушки – не флот. Но теперь он поплывёт и без меня.
Он ушёл в десятом часу. Дверь закрылась.
Валерия Ильинична осталась одна. Она убрала посуду, вымыла чашки, вытерла стол. Потом села, положила Штурвал перед собой и сказала в пустоту: – Пора, Пётр Алексеевич. Последний рейс.
За окном шёл снег – первый в этом году. Она надела старое пальто, положила в карман кусочек дуба от «Гото Предестинации» и перстень – нет, перстень остался Гавриле. Штурвал вспыхнул. Воздух задрожал.
Глава 8. Ночь перед переносом
Валерия Ильинична легла в постель, когда часы на стене пробили полночь – старые, с кукушкой, которые Илья подарил ей на свадьбу в 1965-м, и которые она чинила сама трижды: после Полтавы, после Сталинграда и после возвращения в 2025-й. Кукушка прокуковала ровно двенадцать раз, и квартира погрузилась в тишину – ту самую, которая бывает только в старых домах ночью, когда ветер за окном шепчет секреты, а полы скрипят от воспоминаний. Она накрылась одеялом – тонким, выцветшим, сшитым из обрезков ткани ещё в семидесятых, – и уставилась в потолок, где трещины складывались в карты: вот Дон под Полтавой, вот Волга в Сталинграде, вот Воронежская верфь с недостроенными галерами.
Сон не шёл. Не шёл, как не шёл в ту ночь перед Полтавой, когда она лежала в шалаше у костра, слушая храп солдат и чувствуя, как Колокол Ветра пульсирует под рукой, будто живое сердце. Не шёл, как не шёл в 1943-м, в подвале универмага, когда она ждала рассвета, чтобы уйти в степь с Якорем на санях. Она перевернулась на бок, подтянула колени к груди – тело ныло, старое, изношенное веками, но всё ещё крепкое, как дубовая доска от «Гото Предестинации». В груди колотилось – не сердце, а эхо: голоса тех, кого она оставляла в других временах.
Сначала пришёл Пётр – не видением, а воспоминанием, таким ярким, что она почувствовала запах трубочного табака и смолы. Он стоял на верфи, в засмоленном фартуке, с топором в руке, и кричал: «Бабка, не спи! Россия ждёт!» Она оставила его в 1709-м, после Полтавы, когда он обнял её на прощание и прошептал: «Вернись, если сможешь. Без тебя флот утонет». Она вернулась – но не к нему, а в своё время. И теперь он ждал где-то в вечности, курил трубку и смотрел на неё с укоризной.
Потом – Илья. Её Илья, отец, которого она видела в 1942-м раненым лейтенантом, с простреленным бедром и глазами, полными боли. Она перевязывала его молча, глотая слёзы, потому что знала: это он, её папа, ещё молодой, ещё без седин, ещё не знающий, что назовёт дочь Валерией в честь той «бабки из будущего», которая спасла ему жизнь. Она оставила его там, в медсанбате, с шепотом: «Выживешь, сынок. И дочь назови Валерией». Он выжил. Назвал. И умер в 1990-м, так и не узнав правды.
Затем – Анна. Мама. Та, что упала в Гремячий Лог в 1942-м на горящем МиГе, и чей дух ждал её в Дивногорье в 1709-м, как схимонахиня Марфа. Валерия оставила её там, в меловой пещере, с Колоколом в руках и словами: «Иди, дочка. Доплыви до конца». Анна кивнула, перекрестила её и исчезла в тумане времени.
И ещё десятки – плотники с верфи, солдаты под Полтавой, раненые в Сталинграде, дети-беженцы в степи. Все они смотрели на неё с потолка, шептали: «Не оставляй нас, бабуль». Сердце ныло особенно сильно – последний раз. Она знала: это прощание. С ними. С собой. С жизнью, которая была не жизнью, а вечной вахтой.
Она села в постели, включила лампу на прикроватном столике – ту самую, с абажуром из 1950-х, – и достала из тумбочки кусочек дуба от «Гото Предестинации». Положила на ладонь – он был тёплым, как Штурвал. Закрыла глаза и впервые за много лет прошептала: «Пётр Алексеевич… если слышишь… дай сил. Последний раз. Чтобы не подвести».
Воздух в комнате стал гуще. Ветер за окном стих. Она ждала ответа – не слова, а знака. И он пришёл: лампа мигнула, тень на стене дрогнула, и на миг ей показалось, что в углу стоит он – высокий, в морском мундире, с трубкой в руке. Но это был всего лишь сон. Она легла обратно, свернулась калачиком и уснула – глубоко, без снов, как спит человек перед бурей.
За окном снег шёл сильнее. Штурвал на столе светился тихо, ждал. Утро придёт скоро. А с ним – последний зов.
Глава 9. Первая встреча с Петром (2025 год)
Валерия Ильинична проснулась от запаха – не кофе, не пыли старой квартиры, а смолы и табака, того самого, голландского, который всегда витал вокруг него. Она села в постели резко, сердце колотилось, как после бега по степи в 1943-м. Лампа на прикроватном столике горела тускло, но в кухне был свет – яркий, желтоватый, как от масляного фонаря на верфи. Она встала, накинула халат и пошла туда босиком, полы скрипели под ногами, но не так, как обычно: будто под ними не бетон, а дубовая палуба.
Он сидел за её кухонным столом – Пётр Алексеевич, в засмоленном фартуке, с топором на поясе и трубкой в зубах. Высокий, сутулый, с глазами, в которых бушевал шторм, но сейчас они были спокойными, почти грустными. Дым от трубки вился к потолку, рисуя в воздухе корабли – «Гото Предестинацию», галеры под Полтавой, даже те, железные, из будущего, которых он никогда не видел. Он курил молча, глядя на неё, и в комнате пахло не мартовским Воронежем, а летом 1709-го: рекой, потом и победой.
– Ну что, бабка, опять в путь? – спросил он знакомым басом, тем самым, от которого когда-то дрожали плотники на верфи и трепетали шведы под Полтавой. Голос был хриплым, но тёплым, как дерево Штурвала.
Валерия Ильинична стояла в дверях, не в силах пошевелиться. Слёзы навернулись на глаза – не от страха, а от той боли, которая всегда жила в ней при мысли о нём. Она видела его таким в последний раз: после Полтавы, когда он обнял её при всех и прошептал: «Спасибо, Валерия Ильинична. Курс верный». А теперь он здесь, в её кухне, в 2025-м, где нет верфи, нет войны, только одиночество и тишина.
– Последний раз, Пётр Алексеевич, – прошептала она, подходя ближе. Голос дрогнул. – Я старая. Устала. Но Штурвал зовёт. Якорь ждёт.
Он кивнул, вынул трубку изо рта и положил на стол – дым не рассеялся, а повис, как туман над Доном. – Знаю. Поэтому и пришёл. Ты думаешь, я тебя одну отпущу? После всего? – Он усмехнулся, но в усмешке была грусть. – Верфь без тебя развалилась бы. Полтава – проиграна. Россия – утонула. А теперь Сталинград? Там кровь по колено, бабка. Там твоя кровь.
Она села напротив, взяла его руку – большую, мозолистую, с запахом дегтя. Рука была тёплой, настоящей. – Я боюсь, Пётр Алексеевич. Боюсь не вернуться. Гаврила ждёт. Дочка его – Валерия. Роду конец.
Он сжал её ладонь – крепко, как сжимал рукоять топора. – Не конец. Начало. Ты доплывешь. Держи курс. Я с тобой буду. Невидимым, но рядом. Как всегда. – Он достал из кармана кусочек дуба – тот самый, от «Гото Предестинации», с вмятиной от его топора. Положил ей на ладонь. – Возьми. Когда силы кончатся – сожми. И вспомни: Россия не тонет. Потому что такие, как ты, её держат.
Дуб был горячим, как Штурвал. Она кивнула, слёзы покатились по щекам. – Спасибо, Пётр Алексеевич. За всё.
Он встал, надел шляпу – ту, голландскую, с пером, – и шагнул к двери. Но на пороге обернулся: – Прощай, бабка. Курс верный. Полный вперёд.
И исчез. Дым рассеялся. Кухня стала обычной – стол, чашка с остывшим чаем, тишина.
Валерия Ильинична проснулась – по-настоящему. Лежала в постели, сердце всё ещё колотилось. Лампа горела. Она села, посмотрела на столик: там лежал кусочек дуба. Тёплый. Настоящий.
Она сжала его в ладони и прошептала: – Курс верный, Пётр Алексеевич. Полный вперёд.
За окном светало. Штурвал на столе вспыхнул ярче. Пора.
Глава 10. 23 марта
Валерия Ильинична встала ни свет ни заря – часы показывали пять утра, кукушка ещё молчала, но за окном уже серело, как перед бурей. Снег за ночь намёл сугробы, двор был белым и пустым, только одинокий фонарь мигал у подъезда, будто подмигивал: «Пора, бабуль». Она не стала варить кофе – не хотелось. Просто умылась холодной водой, надела старое платье, то самое, в котором ходила в 1942-м по медсанбатам, платок на голову – выцветший, но крепкий, как её воля, – и пальто с карманами, полными воспоминаний: кусочек дуба от Петра, фотография Ильи из 1942-го, маленькая иконка Божьей Матери, которую ей дала Анна в Дивногорье.
Штурвал лежал на столе – светился ярко, зелёным, как латунные вставки на нём, и воздух вокруг него дрожал, будто перед грозой. Она села напротив, положила ладони на дерево – оно было горячим, живым, пульсирующим, как сердце перед прыжком. Закрыла глаза и прошептала: «Готова, Пётр Алексеевич. Веди».
Дверь в квартиру открылась – тихо, без скрипа. Гаврила влетел, запыхавшийся, с рюкзаком за плечами и снегом в волосах. Он не спал всю ночь – приехал на первом автобусе, чтобы успеть. – Бабуль! Не уходи без меня!
Она открыла глаза, улыбнулась – грустно, но тепло. – Пришёл, внучек. Хорошо. Сядь. Последние слова.
Гаврила сел, схватил её руку. – Я не пущу. Или иду с тобой.
Она покачала головой. – Нет. Ты нужен здесь. Жене. Дочке. России – в твоём времени. Я уйду одна. Как всегда.
Штурвал вспыхнул ярче – сам, без прикосновения. Воздух задрожал сильнее, комната наполнилась гулом – низким, как река под землёй. Валерия Ильинична встала, взяла Штурвал в руки – он обжёг ладони, но она не выпустила. – Пора.
Гаврила вскочил, схватил её за плечи. – Бабуль! Подожди! Я люблю тебя!
Она обняла его – крепко, по-матерински, по-бабушкински, как обнимала раненых, как обнимала Петра. – И я тебя, внучек. Не ищи. Вернусь. Если смогу.
Воздух закружился вихрем – снежинки за окном встали стеной, лампа мигнула и погасла. Штурвал ослепил зелёным светом. Гаврила успел только крикнуть: «Бабуль!» – и её уже не было. Только эхо гула в ушах и тишина.
На столе остался перстень Петра – Гаврила не заметил, как она сняла его и положила, – и записка, написанная её ровным почерком: «Не ищи. Вернусь. Люблю. Расскажи дочке сказки про бабушку и флот. Курс верный».
Гаврила сел на пол, заплакал – тихо, по-мужски. За окном рассветало. Весна 2025 года продолжалась без неё. А где-то в прошлом уже ждали: война, кровь, Якорь. И Пётр – с трубкой в руке, шепчущий: «Полный вперёд, бабка».
Глава 11. 6 июля 1942,
14
:17
Валерия Ильинична открыла глаза резко, словно от удара по щеке – невидимого, но привычного, как все удары, что сыпались на неё за триста с лишним лет. Первое, что ворвалось в сознание, был запах. Не просто запах – густой, удушливый коктейль войны, который она узнала его мгновенно, как старого врага: карболка, смешанная с гарью от горящих домов, свежей кровью, что пропитала бинты и пол, и солёным, животным потом раненых, которые боролись за каждый вздох. Этот запах был старше неё самой – он стоял под Полтавой, когда порох смешивался с кровью и грязью, он висел в воздухе Сталинграда, который ждал впереди, и вот теперь он здесь, в июле 1942-го, в медсанбате у Гремячего Лога.
Она лежала на узкой железной койке, скрипевшей при каждом движении, в палате, где потолок был низким, бетонным, с паутиной трещин от близких разрывов бомб. Через маленькое, забранное решёткой окошко под потолком пробивался мутный, дымный свет – Воронеж горел уже третий день, и небо над городом было чёрно-оранжевым, как рана, в которую насыпали порох. Крики раненых заполняли пространство – хриплые, надрывные, отчаянные, как кричали шведы под Полтавой, когда сабля входила в плоть, только теперь вместо холодного оружия были пули, осколки мин и снарядов, что рвали тела на части. Кто-то стонал тихо, как ребёнок, кто-то матерился сквозь зубы, кто-то звал мать – и этот зов резал её сильнее любого ножа.
Она села медленно, голова кружилась от перехода – Штурвал всегда бросал грубо, как пьяный матрос с борта, – но тело помнило всё. Платье простое, серое, домотканое, как в 1709-м на верфи, платок на голове, повязанный узлом под подбородком, руки в мозолях – те самые, огрубевшие от смолы, канатов и топора, что ковали якоря для Петра и перевязывали раны в будущих войнах. Ноги в старых ботинках, стоптанных, но крепких – война всегда возвращала силы, выжимала из неё последние крохи, как из тряпки, и не давала упасть.
Молодая медсестра – девчонка лет двадцати, с лицом, чёрным от копоти и недосыпа, глаза воспалённые, красные от слёз и дыма – подбежала, схватила её за руку, пальцы дрожали: – Бабка, вставай! Ты что, оглохла? Немцы на том берегу! Переправа горит, танки их прут, а ты спишь, как в раю!
Валерия встала – ноги были крепкими, несмотря на возраст, который она сама давно сбилась считать. Война всегда так: отнимает всё, но даёт силу, если ты её часть. Она огляделась медленно, впитывая: палата медсанбата – бывший подвал школы или завода, стены в потёках, койки в два яруса, на полу солома и шинели вместо матрасов, раненые – сотни, лёжа, сидя, ползя. Стоны, бред, запах гноящихся ран, йода, мочи – всё смешалось. Лампа керосиновая коптила под потолком, бросая тени, как призраков. Она знала это место – Гремячий Лог, июль 1942-го, когда немцы рвались к Дону, а Воронеж стоял насмерть, как стоять будет Сталинград через пару месяцев. Штурвал сделал своё: бросил её сюда, в самый ад, где ждал Якорь Воды, спящий тысячу лет и теперь разбуженный кровью.
– Где командир? – спросила она тихо, но твёрдо, голосом, от которого медсестра вздрогнула, отступила на шаг, будто увидела привидение. Голос был низкий, с хрипотцой, но в нём звенела сталь – та, что ковалась на верфях Петра.
– Там, в операционной… А ты кто такая? Откуда взялась? Вчера тебя не было!
Валерия не ответила – пошла по палате, наклоняясь к раненым, поправляя бинты, шепча: «Держись, сынок, не сдавайся», «Вода вот, пей, милый», «Боль пройдёт, потерпи». Руки помнили всё: как накладывать жгут из ремня, как вправлять кость без наркоза, как шептать молитву, чтобы душа не ушла. Она делала это тысячу раз – под Полтавой, когда лечила плотников от ран саблями, в степях с казаками, в будущем, которое уже видела, в Сталинграде, где кровь будет по колено. Раненые тянулись к ней – кто рукой, кто взглядом, как к матери, как к надежде. Молодой лейтенант с оторванной ногой схватил её за рукав: «Мама… не уходи…» Она погладила его по волосам, мокрым от пота: «Не уйду, орёл. Спи».
Через час её уже все звали «бабка Валерия» – она работала быстро, уверенно, не задавая вопросов, успокаивая одним взглядом, одним прикосновением. Врачи смотрели с удивлением и благодарностью: откуда взялась эта старуха с топором за поясом (да, топор был – тот самый, из 1709-го, Штурвал принёс его с собой), с руками хирурга и глазами, в которых была вся война мира?
Вечером командир медсанбата – усталый капитан с седыми висками, глазами в красных прожилках, в гимнастёрке, пропитанной кровью – подошёл к ней, когда она сидела у керосинки, грея воду для чая: – Откуда вы, мать? Не из наших? Эвакуированные все ушли, а вы…
Она посмотрела ему в глаза – те самые глаза, что видела у Петра перед Полтавой: усталые, но несломленные, с той же искрой. – Из будущего, сынок, – сказала она спокойно. – Пришла помочь.
Он решил, что шутит или бредит от контузии, засмеялся хрипло, кашляя: – Ну, если из будущего – скажи, когда кончится эта мясорубка? Когда победа?
Валерия не ответила сразу – только положила руку ему на плечо, тяжело, как мать сыну. Кожа под гимнастёркой была горячей от лихорадки. – Скоро, – сказала она. – Держись. Мы выдержим.
Ночью, когда палата затихла – раненые уснули от усталости или морфия, только стоны иногда прорывались – она вышла на берег. Воздух был тяжёлый, пропитанный дымом горящего Воронежа, порохом и рекой. Гремячий Лог шумел тихо, вода чёрная, но в глубине она почувствовала – серебристое свечение, слабое, как далёкая звезда. Якорь проснулся. Кровь 1942 года, пролитая здесь, разбудила его, как разбудила в 989-м слёзы Владимира.
Она стояла на берегу, ветер рвал платок, и почувствовала гул в ушах – низкий, глубокий, как река под землёй, как сердце России, бьющееся в агонии. – Жди меня, родной, – прошептала она воде, опускаясь на колени, касаясь ладонью холодной поверхности. – Я иду. Я пришла за тобой.
За спиной раздался шорох – та самая медсестра, с фонариком в руке, шептала испуганно: – Бабка, немцы близко… Водолазы их видели в реке. Что-то ищут на дне…
Валерия кивнула, не оборачиваясь. – Знаю. Поэтому и пришла.
Она вернулась в палату, легла на койку, но сон не шёл – тело ныло от перехода, душа от предчувствия. В кармане грелся кусочек дуба – тот, что Пётр отломил от штурвала «Гото Предестинации» в 1709-м и сказал: «На память, бабка». Она сжала его в кулаке, так сильно, что край врезался в кожу. – Помоги, Пётр Алексеевич, – прошептала она в темноту. – Последний раз. Вместе дойдём.
И уснула – глубоко, без снов, как перед бурей, которая уже собиралась над Доном. Утро принесёт бой – яростный, кровавый. А с ним – встречу, которую она ждала всю жизнь: с Якорем, с прошлым, с собой настоящей. Война не ждала. Россия звала. И она ответила.
Глава 12. «Бабка Валерия»
Через час после пробуждения в палате её уже все звали «бабка Валерия» – раненые шептали это имя, как заклинание, когда боль накатывала волной, а медсёстры переглядывались с уважением и лёгким страхом: откуда взялась эта старуха, что работает быстрее молодых, не морщится от гари и крови, не жалуется на вонь гниющих ран и одним взглядом останавливает стоны, будто перекрывает кран боли? Она шла от койки к койке, не спрашивая имён, званий или ран – руки сами знали, что делать: затянуть жгут потуже, промыть рану карболкой, не жалея, чтобы не пошла гангрена, вставить тампон, шепнуть: «Потерпи, милый, Россия держится, и ты держись». Её платье, простое серое, уже пропиталось потом, кровью и йодом, платок сполз на плечи, открыв седые волосы, слипшиеся от пота, но глаза горели – те самые глаза, что видели Полтаву в огне и дыму, верфь Воронежа, где пахло смолой и надеждой, и теперь узнавали в этих мальчишках тех же солдат, только в другой форме, с другими пулями, но с той же русской упрямостью в взгляде.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.