Диалог Платона «Государство». Часть 2
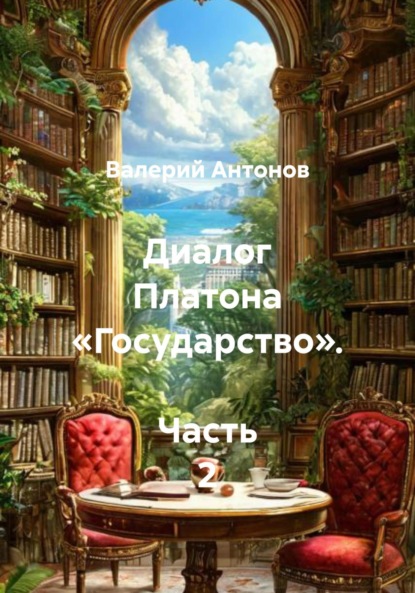
- -
- 100%
- +
⦁ Ф.Х. Кессиди в работе «Философия истории Платона» отмечает, что учение о формах государственного устройства представляет собой не просто классификацию, а теорию единого процесса деградации, имеющую свою внутреннюю логику. Отправной точкой этой деградации служит отказ от условий, сформулированных в V книге, прежде всего – от власти философов и общности имущества и семьи.
Библиографическое дополнение (зарубежное):
⦁ Дж. Аннас в «An Introduction to Plato's Republic» подчеркивает, что книги VIII-IX часто читаются неправильно, если упускается их прямая связь с проектом V книги. Падение идеального государства начинается не с внешнего вторжения, а с внутренней ошибки в «расчете» при подборе правителей, что ведет к утрате единства. Таким образом, Платон показывает, что политическая коррупция коренится в эпистемологической и психологической ошибке, а не в случайностях судьбы.
Альтернативные дополнения и развитие темы
4.1. Диалектика единства и множественности как структурный принцип.
Вся архитектура «Государства» может быть прочитана как развертывание диалектики Единого (ἕν) и Многого (πλῆθος).
⦁ Книги II-V: Постепенное построение государства как Единого организма, где части (сословия) служат целому. Апогей – радикальные предложения V книги, максимально подавляющие частное («многое») во имя общего («единого»).
⦁ Книги VIII-IX: Поэтапный распад Единого в Многое. Каждая последующая форма правления – это торжество партикулярного интереса (тимократия – честолюбцев, олигархия – богачей, демократия – всех по отдельности, тирания – одного), вплоть до полного хаоса тиранической души.
Таким образом, Пятая книга представляет собой точку максимального единства, после которой начинается нисхождение к множественности и распаду.
4.2. «Волны» критики как пролог к «волнам» деградации.
Три «волны» невероятного (три радикальных тезиса V книги: равенство женщин, общность жён и детей, власть философов) можно рассматривать как структурную параллель к четырём «волнам» политической деградации в книгах VIII-IX.
⦁ «Волны» в V книге – это то, что необходимо принять, чтобы удержать государство на высоте идеала.
⦁ «Волны» деградации – это этапы отказа от этих принципов, ведущие вниз.
Эта симметрия подчеркивает, что Платон выстраивает не просто описание, а динамическую модель с четкими причинно-следственными связями между философскими принципами и политическими последствиями.
Эти дополнения показывают, что Пятая книга является не просто одним из элементов структуры, а своего рода несущей осью всего диалога, которая связывает воедино его этическую, политическую и историософскую составляющие.
Обобщим и синтезируем все предыдущие наблюдения. Важно подчеркнуть комплексность замысла Платона.
5. Драматургия диалога: жест как философский жест.
Указание на живые жесты (такие как захват плаща Адимантом) – это не просто стилистический прием. Это важнейший элемент платоновского искусства характеризации и драматургии. В этот момент Адимант и Главкон перестают быть просто «голосом аудитории» и предстают как активная, настойчивая интеллектуальная сила. Они – воплощение идеального слушателя-собеседника, который является не пассивным реципиентом, а со-исследователем (συνεργός).
Их настойчивость показывает, что поиск истины у Платона – это коллективный и диалектический процесс, в котором даже учитель (Сократ) может попытаться уклониться от особенно трудного следствия, а ученики – призвать его к интеллектуальной честности. Диалог оживает, превращаясь в напряженную интеллектуальную драму, где истина рождается в столкновении и сотрудничестве умов.
Библиографическое дополнение (зарубежное):
⦁ Михаэль Томас Маркс в работе «Кто же говорил у Платона? Диалог и авторство» подчеркивает, что драматургические детали у Платона (жесты, ирония, паузы) несут философскую нагрузку. Они показывают, что философия – это не трансляция готового знания, а «живое существо» (ζῷον), рождающееся в конкретной ситуации спора и совместного поиска. Захват плаща Адимантом – это физическое воплощение его «захвата» слова Сократа, не позволяющего ему уклониться.
Синтез: Начало Пятой книги как философско-риторический узел
Таким образом, начало Пятой книги предстает не как простое введение новой темы, а как сложный, многоуровневый философско-риторический узел. Платон мастерски решает несколько задач одновременно:
⦁ Проблематизация и углубление: Он проблематизирует собственные тезисы, показывая их радикальность через реакцию собеседников, и углубляет политическую теорию, выводя ее на уровень критики фундаментальных социальных институтов (семьи, собственности).
⦁ Методологическая рефлексия: Он оправдывает утопический метод, открыто говоря о риске показаться мечтателем, и превращает этот риск в добродетель философского мужества.
⦁ Структурное единство: Он создает структурный каркас для всего последующего политического анализа, поскольку отказ от принципов V книги становится причиной деградации всех несправедливых форм правления.
⦁ Драматургия вовлечения: Он драматизирует изложение, используя живые жесты и напряженный диалог, чтобы сделать читателя не наблюдателем, а соучастником напряженного философского поиска.
Библиографическое дополнение (отечественное):
⦁ С.А. Анисимов в статье «Диалог Платона “Государство”: единство драматургии и теории» утверждает, что форма диалога у Платона неотделима от содержания. Напряжение между Сократом и его собеседниками моделирует внутреннее напряжение самой мысли, сталкивающейся с парадоксами и пределами. Начало V книги – ярчайший пример того, как драматургический конфликт становится двигателем теоретического развития.
Через драматургический эпизод с прерыванием и требованием Адиманта Платон достигает главного: он демонстрирует, что философская истина не дана, а задана. Она является продуктом диалектического усилия, коллективного риска и личной ответственности мыслителя перед логикой своего собственного рассуждения. Это делает «Государство» не трактатом, а живым актом философствования, в который вовлекается каждый читатель.
Этот отрывок является сердцем «Государства», где его центральные идеи подвергаются наибольшему испытанию и получают наиболее сильное развитие.
Представленный отрывок представляет собой тщательно продуманный литературный и философский прием, который выполняет ключевую структурную функцию в композиции «Государства». Искусственное прерывание Сократом линейного изложения модели идеального государства служит нескольким важнейшим целям:
1. Акцент на радикализме проекта. Платон целенаправленно выносит обсуждение наиболее спорного и революционного аспекта своего политического проекта – общности жен и детей (κοινὰ τὰ φίλων) – в отдельный, драматически выделенный эпизод. Это подчеркивает первостепенную важность данного института для всего построения, поскольку именно он призван уничтожить частные интересы и достичь абсолютного единства правящего класса.
2. Легитимация последующей аргументации. Возражения Адиманта и поддержка со стороны Главкона и Фрасимаха – это не просто реплики, а инструмент, позволяющий Платону показать осознание Сократом всей сложности и деликатности темы. Предваряя объяснение предупреждением о «недоверии» (ἀπιστία) и риске показаться мечтателем, Платон заранее снимает потенциальные обвинения в утопизме и придает последующему подробному разъяснению вес и серьезность.
3. Драматизация философского дискурса. Диалог искусственно превращается в напряженное обсуждение с элементами почти детективной интриги («Ты утаиваешь целый раздел!»). Живые жесты (Полемарх хватает Адиманта за плащ) и прямая речь выводят абстрактную политическую теорию на уровень человеческого взаимодействия, делая ее более убедительной и запоминающейся.
О соотношении этического и политического
Утверждение о «чисто этическом характере» концовки диалога действительно требует уточнения применительно к Пятой книге. Данная книга является не заключением, а кульминацией политико-институционального проектирования. Здесь Платон, следуя «политическому разуму», детализирует те конкретные механизмы (отмена семьи для стражей, евгеника, общественное воспитание), которые должны материально обеспечить реализацию этических принципов справедливости и единства.
Более того, прерывание в начале Пятой книги служит мощной завязкой для последующего масштабного сравнения. Упомянутые Сократом «четыре вида порочности» – это прямой структурный мост к книгам VIII-IX, где Платон подробно анализирует типы несправедливых государственных устройств (тимократия, олигархия, демократия, тирания) и соответствующие им типы души. Таким образом, радикальные предложения V книги задают эталон идеала, от которого будет отталкиваться критика реальных и деградирующих форм политики, что придает всему диалогу структурную целостность.
Часть 2. Основные направления и интерпретацииПятая книга «Государства» является одной из наиболее революционных и провокационных в корпусе Платона, поскольку вводит два радикальных положения: уничтожение института семьи для стражей и предоставление женщинам доступа к высшим должностям в государстве. Анализ этой книги значительно обогащается при обращении к современным исследовательским подходам.
1. Феминистская критика и интерпретация
Это направление является одним из самых разработанных в зарубежной платонистике.
⦁ Ключевые источники: Работы Джулии Аннас (например, "Plato's Republic and Feminism", Philosophy, 1976) и Натали Харрис Блур (например, "The Repudiation of Womanhood in Plato's Republic") задают тон дискуссии, предлагая неоднозначную оценку.
⦁ Суть анализа: Платона действительно можно рассматривать как протофеминиста, поскольку он аргументирует за равное образование и доступ к правящим должностям для женщин-стражей, что ломает традиционные для античности гендерные роли.
⦁ Критический взгляд: Однако феминистские исследователи указывают, что это «освобождение» носит утилитарный, а не гуманистический характер. Женщины ценны постольку, поскольку их способности полезны государству (Каллиполису). Более того, предлагаемая общность жён и детей ведёт к «упразднению» частной, семейной жизни женщины, её тела и репродуктивной функции, которые ставятся на службу полису. Таким образом, проект Платона может быть истолкован не как расширение прав и возможностей женщин, а как их радикальное подчинение интересам коллектива, стирающее их индивидуальность.
Альтернативное дополнение в границах книги: Можно акцентировать внутреннее противоречие аргументации Сократа. Он пытается доказать, что женская природа не уступает мужской, кроме как в силе, но при этом строит свою модель на ассимиляции женщин к мужскому стандарту (страж-мужчина). Это поднимает вопрос: предлагает ли Платон подлинное равенство, или же он просто предлагает женщинам стать «как мужчины», тем самым отрицая специфически женское?
2. Утопический и тоталитарный дискурс (с привлечением отечественных исследований)
Это направление фокусируется на Платоне как на создателе социально-политической модели, где интересы индивида полностью поглощаются государством.
⦁ Ключевые источники:
⦁ Отечественные: А. Ф. Лосев в работе «История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон» анализирует «Государство» как идеалистическую утопию, направленную на достижение высшего блага, но отмечает жёсткость предлагаемых мер. В. С. Нерсесянц («Платон») рассматривает модель как форму философского тоталитаризма, где личность растворяется в коллективе.
⦁ Зарубежные: Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги» представляет самый жёсткий приговор, видя в проекте Пятой книги (особенно в общности жён и детей) тоталитарную практику селекции и контроля над личностью.
⦁ Суть анализа: Пятая книга является квинтэссенцией утопического проекта Платона. Уничтожение семьи трактуется как способ уничтожить частные интересы, которые являются главным источником раздора в государстве. Цель – создать абсолютно сплочённый класс стражей, не знающий разделения на «моё» и «твоё».
Альтернативное дополнение: Анализ можно сместить в сторону сравнения с современными Платону практиками. Например, институт syssiti (общественных трапез) в Спарте или элементы государственного регулирования брака также aimed на укрепление полиса. Это позволяет увидеть, что предложения Платона не были абсолютно умозрительными, но парадоксальным образом вырастали из крайних форм греческой полисной идеологии.
3. Биополитическая интерпретация
Это современное направление, которое видит в Платоне предтечу управления жизнью населения (биополитики).
⦁ Ключевые источники: Идеи Мишеля Фуко о биовласти и биополитике, применённые к античности (например, в лекционных курсах), а также работы современных исследователей, таких как Никколо Партицио.
⦁ Суть анализа: Предписания Пятой книги можно рассматривать как раннюю форму биополитики – управления популяцией (в данном случае, классом стражей) на уровне их жизни, тел и репродукции. Государство регулирует брачные союзы («священные браки»), определяет, кто и когда должен рожать детей, производит отбор младенцев («селекция»), забирает детей у родителей для коллективного воспитания. Таким образом, тело гражданина (и особенно женщины) становится объектом прямого государственного вмешательства и оптимизации для производства наилучшего «человеческого материала».
Альтернативное дополнение: В рамках этой интерпретации интересно проследить метафору селекции (отбора). Платон использует язык животноводства («как у собак и птиц»), чтобы описать идеальную евгеническую программу. Это позволяет говорить о том, что рационализация человеческой жизни у Платона доходит до степени, где граница между гражданином и породистым животным становится размытой.
4. Эпистемологический и метафизический аспект (рождение философа)
Пятая книга знаменита также введением фигуры философа-правителя. Это связывает социальные проекты с фундаментальной онтологией Платона.
⦁ Ключевые источники: Сам Платон (теория идей), а также комментарии, например, Пьера Адо («Что такое античная философия?») или отечественного исследователя Ю. А. Шичалина («История античного платонизма»).
⦁ Суть анализа: Радикальные социальные реформы (включая гендерное равенство) являются не самоцелью, а необходимым условием для появления истинного философа, способного узреть мир идей и управлять государством согласно идее Блага. Таким образом, Пятая книга – это мост между несовершенным миром мнений (doxa) и миром истинного знания (episteme). Без переустройства общества, основанного на телесных и частных интересах, познание высших истин невозможно.
Альтернативное дополнение: Можно рассмотреть образ пещеры (который появляется позднее, в Седьмой книге) как метафору освобождения от телесных уз, предвосхищаемую в Пятой книге. Упразднение семьи и частной собственности для стражей – это первый шаг к выходу из «пещеры» телесного и частного существования.
Заключение: Комплексный анализ Пятой книги «Государства» требует учёта всех этих интерпретационных векторов. Они демонстрируют, что текст Платона продолжает порождать новые смыслы, оставаясь полем для актуальных философских и политических дискуссий.
Социобиологический и евгенический аспект (отечественный и зарубежный контекст)
⦁ Ключевые источники:
⦁ Отечественные: А.Ф. Лосев в фундаментальной работе «История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон» рассматривает эти меры как часть создания платоновской «государственной мифологии», где биологическое подчинено социально-символическому.
⦁ Зарубежные: Бернард Уильямс в эссе «The Analogy of City and Soul in Plato's Republic» и другие исследователи (например, Малкольм Шофилд) анализируют этот аспект как политическую биологию или прото-евгенику, направленную на поддержание стабильности полиса.
⦁ Суть анализа: Предложения Платона о брачных играх, отборе «лучших» производителей и уничтожении «негодных» потомков действительно являются прообразом евгенических практик. Однако критически важно, что их цель – не биологическое «улучшение породы» в современном расистском понимании, а, прежде всего, воспроизводство определенных нравственных качеств (добродетели, ἀρετή). Лучшие мужчины и женщины сводятся вместе, чтобы произвести на свет потомство с предрасположенностью к добродетельной душе. Этот процесс глубоко символичен и направлен на уничтожение главного источника раздора в государстве – частного интереса, олицетворяемого семьей и кровными узами.
⦁ Интерпретация Лосева: Отечественный философ акцентирует, что Платон здесь мифологизирует социальные отношения. Брак превращается в священнодействие (hieros gamos), подчиненное интересам целого. Это не просто селекция, а создание нового символического порядка, где рождение детей становится не частным делом, а государственным ритуалом.
Альтернативные дополнения и направления для углубления анализа:
1. «Евгеника души» vs. «Евгеника тела».
Можно провести более четкое различие между платоновским проектом и позднейшими теориями. Платона интересует не столько физическое здоровье или чистота расы, сколько «качество души». Его евгеника носит спиритуалистический характер: тело является лишь временным сосудом для бессмертной души, и задача – создать наилучшие условия для воплощения добродетельных душ в правильном государстве. Это противопоставляет его, например, спартанской практике физического отбора детей.
2. Связь с теорией идей и анамнезисом.
Этот аспект можно увязать с фундаментальной онтологией Платона. Если правители-философы познают мир вечных Идей (в том числе Идею Блага), то и в вопросе размножения они действуют как «селекционеры», стремящиеся к воплощению некоего идеального образца стража. Они отбирают пары не по физическим, а по душевным качествам, которые являются отражением мира Идей. Таким образом, евгеническая программа – это приложение философского знания к управлению жизнью государства.
3. Критика с позиций либерализма и прав человека.
Развивая мысль Уильямса, можно явно сформулировать, что платоновская модель представляет собой тотальную инструментализацию человека. Индивид (и его тело) рассматривается исключительно как ресурс (chattel) для укрепления государства. Это вступает в радикальное противоречие с современной концепцией неотчуждаемых прав человека, права на личную жизнь, репродуктивную свободу и автономию семьи. Платон же жертвует всем этим во имя коллективного блага, что и позволяет характеризовать его проект как тоталитарный.
4. Прагматический утилитаризм vs. биологический детерминизм.
Важно подчеркнуть, что для Платона «природа» (φύσις) человека не является неизменной и жестко детерминированной. Его евгеника – это, скорее, утилитарный метод управления, призванный обеспечить постоянное присутствие «золотых» душ в классе стражей. Это гибкий инструмент, а не догма о биологическом превосходстве. Негодное потомство от «худших» производителей не уничтожается физически (как в Спарте), а тайно распределяется среди других сословий, что говорит о прагматизме, а не о биологическом фанатизме.
Заключение по аспекту: Таким образом, социобиологический проект Пятой книги – это сложный синтез утопической инженерии, политической мифологии и философской антропологии. Его нельзя сводить к примитивной евгенике; это, прежде всего, метафизическая программа по созданию идеального человеческого «материала» для построения справедливого государства, где биологическое жизнь полностью подчинена высшим, по мнению Платона, целям.
Платон versus Аристотель: два взгляда на семью и собственность
⦁ Ключевые источники:
⦁ Прямая критика: Классическое противостояние отражено в «Политике» Аристотеля (книга II), где он последовательно и аргументированно критикует проект Сократа из «Государства».
⦁ Отечественный контекст: Этот концептуальный конфликт подробно разбирается в работах Э.Д. Фролова по истории античной социальной мысли (напр., «Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли»), а также в общих курсах по истории философии, например, у В.Ф. Асмуса.
⦁ Суть конфликта: Аристотель возражает Платону с позиций практичности (утилитарности) и человеческой природы (φύσις). Его ключевой аргумент: общность имущества, жён и детей приведёт не к сплочённости (ὁμόνοια), а к разобщённости, поскольку никто не будет по-настоящему заботиться о «ничьих» вещах и детях. Он замечает, что «любовь окажется разбавленной» (Pol. 1262b), а чувство собственности – естественным для человека стимулом. Для Аристотеля семья (οἶκος) – не пережиток, а фундаментальная ячейка государства (πόλις), школа добродетелей и первичная форма общения. Это столкновение демонстрирует два фундаментальных подхода: радикально-утопический (Платон), стремящийся пересоздать человека для государства, и умеренно-прагматический (Аристотель), исходящий из наблюдаемой природы человека и существующих социальных институтов.
Альтернативные дополнения и направления для углубления анализа:
1. Метафизические основания разногласия: Идея vs. Форма.
Различие коренится не только в политике, но и в онтологии.
⦁ Платон исходит из мира Идей (εἶδος). Справедливое государство – это воплощение Идеи Справедливости, и ради этого идеала можно и нужно пожертвовать несовершенными земными институтами (частной семьёй, собственностью).
⦁ Аристотель работает с понятием формы (εἶδος) как внутреннего принципа развития вещи. Формой человека является его социальная и разумная природа. Государство – это естественный продукт развития этой природы, «энтелехия» общительности, вырастающая из семьи. Уничтожить семью – значит разрушить естественную основу государства. Таким образом, Аристотель критикует Платона за «сверхединство», которое уничтожает многообразие, необходимое для жизни целого.
2. Разное понимание справедливости.
⦁ Платон понимает справедливость (δικαιοσύνη) как специализацию и иерархию: каждому своё место и своя функция. Единство государства достигается через устранение конфликта частных интересов, источником которого является семья и собственность.
⦁ Аристотель различает общую справедливость (следование закону) и частную, которая, в свою очередь, делится на распределяющую (по заслугам) и уравнивающую (коммутативную). Частная собственность для него – основа для проявления щедрости, добродетели, относящейся к общению между гражданами. Уничтожение собственности лишает граждан возможности быть справедливыми в этом ключевом для полиса аспекте.
3. Психологический аргумент: что сильнее – разум или привязанность?
Аристотель делает тонкое психологическое наблюдение: когда вещь принадлежит всем, о ней заботится никто. Гораздо эффективнее, если граждане испытывают личную привязанность (φιλία) к своим детям и собственности, но воспитаны так, чтобы использовать их на благо общества. Он предлагает не отменять частное, а «сделать его общим в правильном смысле» через воспитание добродетели и установление хороших законов. Платон же, не доверяя силе частных привязанностей, предпочитает их радикально искоренить.
4. Сравнительный анализ с современными дискуссиями.
Этот спор является прообразом вечной дилеммы: коллективизм vs. индивидуализм.
⦁ Платоновский проект можно рассматривать как предельную форму социального инженеринга и государственного патернализма, где личность полностью растворена в коллективе.
⦁ Аристотелевский подход ближе к идеям гражданского общества и субсидиарности, где государство не заменяет, а поддерживает и регулирует естественные, «низовые» социальные институты, такие как семья.
Заключение по аспекту: Полемика Платона и Аристотеля о семье и собственности – это не просто исторический диспут, а столкновение двух парадигм в политической мысли. Платон предлагает нормативный идеал, достижимый лишь через революционную ломку человеческой природы. Аристотель отстаивает имманентный идеал, вырастающий из самой этой природы и действующих в её границах. Их диалог задаёт фундаментальные вопросы о пределах государственного вмешательства в частную жизнь, о соотношении блага индивида и блага коллектива, которые остаются актуальными по сей день.
«Общность» как метафора философского познания
⦁ Ключевые источники:
⦁ Эта аллегорическая интерпретация уходит корнями в неоплатоническую традицию (например, Плотин, видевший в государстве Платона образ души), а свою современную форму получает у таких авторов, как Лео Штраус ("The City and Man") и его последователей, которые читают Платона как писателя, использующего политические модели для иллюстрации философских истин.
⦁ Также эту линию можно проследить у исследователей, фокусирующихся на платоновской диалектике и теории познания.
⦁ Суть анализа: Радикальные предложения Пятой книги можно рассматривать не только как буквальную утопическую программу, но и как развернутую политическую метафору процесса философского познания. В этом ключе:

