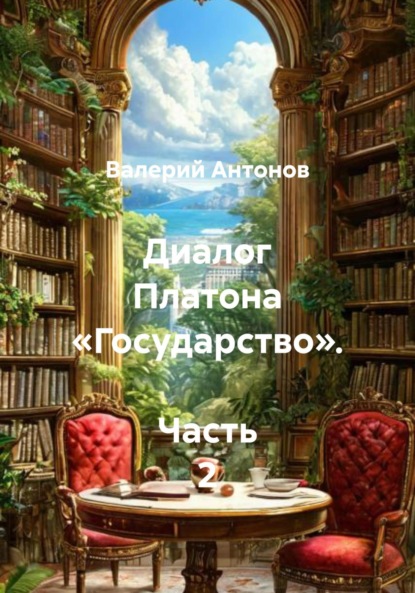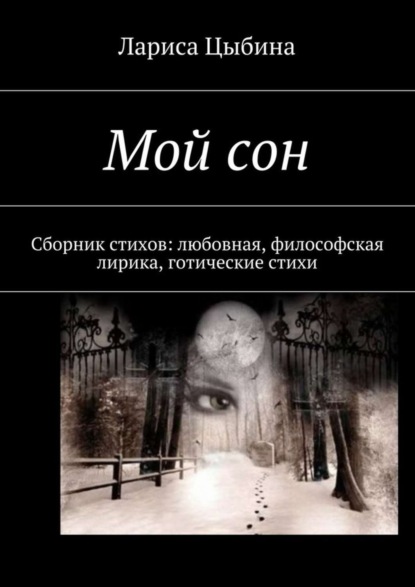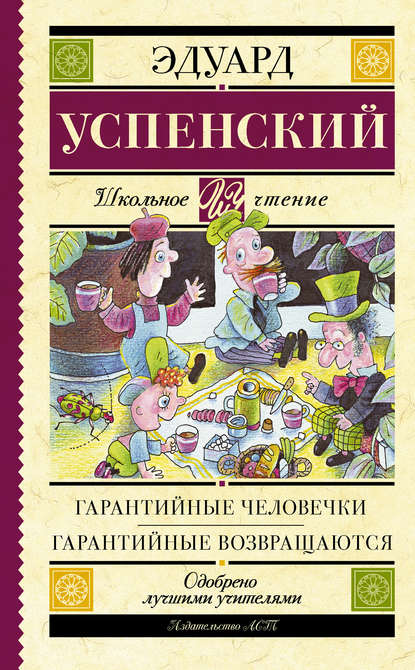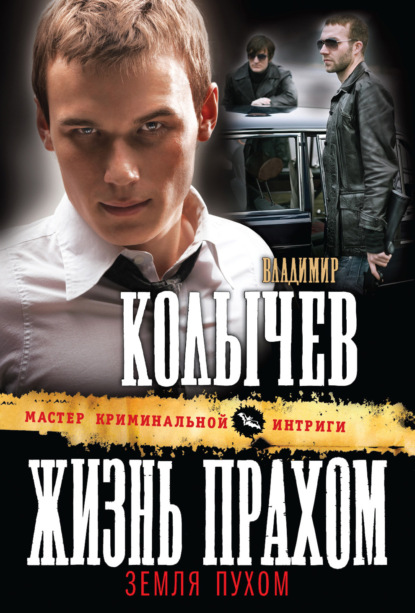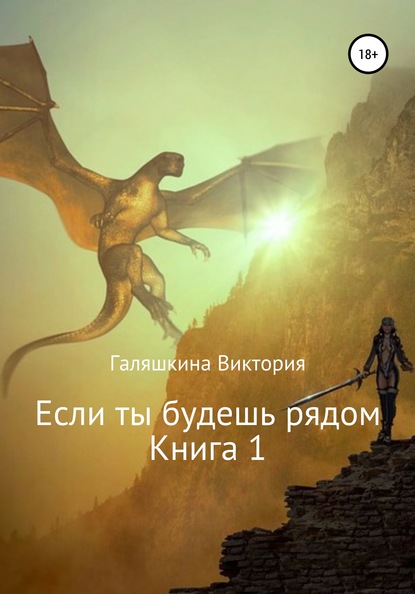- -
- 100%
- +
⦁ «Общность жен и детей» символизирует коллективный и безличный характер поиска истины. Философы-стражи не «владеют» истиной как частной собственностью, но совместно «взращивают» её.
⦁ «Дети» – это истинные суждения, понятия и идеи, рождающиеся в результате интеллектуального «соития» – диалектического диалога с другими душами, направленного на постижение Блага.
⦁ Упразднение частной семьи символизирует отказ от «частного» знания – то есть, от доксы (мнения), которое индивидуально, субъективно и привязано к личному опыту. Задача философа – преодолеть доксу и выйти к эпистеме (объективному, общезначимому знанию).
⦁ Таким образом, государство, где всё общее – это метафора сообщества познающих разумов, достигших уровня эпистемы, где истина едина для всех и принадлежит всем.
Альтернативные дополнения и направления для углубления:
1. Связь с «Пиром»: любовь к идеям vs. любовь к индивидам.
Эта метафора перекликается с диалектикой любви в «Пире». Любовь к отдельному, конкретному человеку (своего рода «частная собственность» в чувствах) – это лишь низшая ступень в лестнице восхождения. Истинный философ должен подняться до любви к самой Идее Прекрасного, которая едина и доступна всем (что аналогично «общности»). Пятая книга, по сути, описывает политический аналог этой лестницы: переход от частных привязанностей к служению общему Благу.
2. «Брачные числа» и диалектический ритм.
Таинственные «брачные числа», которые должны регулировать соития стражей, можно интерпретировать не только как евгенический код, но и как метафору логического ритма, закона самой диалектики. Подлинное «порождение» истины (рождение «детей»-идей) возможно только при соблюдении правильных «промежутков» и «периодов» – то есть, логических последовательностей и методологических принципов ведения дискуссии.
3. Критика софистов как «частных собственников» знания.
В контексте эпохи Платона, эта метафора направлена против софистов, которые преподавали знание как товар, продаваемый частным образом конкретному ученику. Их знание было «частной собственностью», доксой, которой они торговали. Платон же противопоставляет этому модель общего, неотчуждаемого знания, которое рождается в свободном диалоге равных («общих») граждан-философов и служит всему полису.
Заключение по аспекту: Прочтение политических институтов Пятой книги как гносеологической метафоры позволяет увидеть глубокое единство «Государства». Социальная утопия оказывается проекцией утопии эпистемологической. Идеальное государство – это не просто общество справедливых людей, но и модель правильно устроенного познающего разума, в котором частные «мнения» преодолены, и все силы души направлены на созерцание единого и общего Блага.
«Эти разнообразные интерпретации – феминистская, утопически-тоталитарная, биополитическая, сравнительная с Аристотелем и, наконец, гносеологическая – показывают, что Пятая книга "Государства" является не просто сборником радикальных предложений, а многослойным философским текстом, продолжающим порождать новые смыслы и острую полемику, выходящую далеко за рамки сугубо исторического интереса».
V книга как точка бифуркации, где диалог переходит на новый уровень сложности.1. Постановка проблемы: являются ли книги V–VII «Государства» структурным эпизодом, нарушающим единство диалога?
Содержание: В научной литературе широко распространена точка зрения, согласно которой книги V–VII представляют собой обширный эпизод (или «вставку»), нарушающий основную логику диалога. Эта традиция восходит к Фридриху Шлейермахеру, который полагал, что рассуждение о сообществе жен и детей, а также о философах-правителях является ответом на настоятельные просьбы собеседников (в первую очередь Адиманта) и структурно выпадает из первоначального плана исследования справедливости. С этой точки зрения, «эпизод» занимает три книги (V–VII), после чего диалог в VIII книге возвращается к прерванной линии анализа порочных форм государственного устройства.
Дополнения из библиографических источников
Отечественные исследования:
Анализ А.Ф. Лосева, одного из наиболее авторитетных отечественных исследователей платонизма, позволяет выйти за рамки чисто структурного спора («эпизод» vs «не эпизод») и увидеть диалектическую необходимость книг V-VII.
Лосев не отрицает, что с формальной точки зрения в диалоге происходит резкий поворот, спровоцированный вмешательством собеседников. Однако он настаивает на том, что этот поворот является логически неизбежным следствием внутреннего развития основной идеи.
1. От абстрактного единства к конкретному: В книгах II-IV государство строится как модель функционального единства, где справедливость – это гармония между сословиями. Но это единство пока что абстрактно и внешне. Лосев показывает, что логика самого понятия «единство» требует своего предельного усиления. Тезис о том, что государство должно быть единым, как один человек, приводит к радикальным выводам: для достижения подлинного, а не формального единства необходимо устранить главные источники раздора и частных интересов – частную собственность и институт семьи среди стражей. Таким образом, «первая волна» V книги – это не произвольная вставка, а имманентное развитие принципа единства до его логического предела.
2. От социальной функции к онтологическому основанию: Аналогичным образом развивается тема справедливости. Если справедливость – это «исполнение своего дела» (τά ἑαυτοῦ πράττειν), то возникает ключевой вопрос: кто и как может определить, в чем состоит это «дело» для каждого? Ответ Платона, по Лосеву, гласит: только тот, кто познал самую сущность Справедливости, Истины и Блага, то есть философ. Следовательно, идея справедливости неизбежно приводит к идее власти знания, а не просто мнения. Фигура философа-правителя – это не постороннее добавление, а необходимое условие реализации самой справедливости, выводящее политическую теорию из социальной сферы в сферу онтологии и гносеологии.
3. Диалектика как метод: Для Лосева, глубоко понимавшего диалектику Гегеля и Платона, структура «Государства» является отражением диалектического метода. Тезис (простое построение «здорового» государства) встречает свой антитезис (вопрос о реализуемости и радикальные возражения собеседников в начале V книги). Синтезом и становится развернутая в книгах V-VII теория «идеального» государства, которое преодолевает ограниченность первоначальной модели через введение высших принципов (единство, знание). Поэтому «эпизод» – это не сбой, а качественный скачок в развитии мысли, переход на более высокий уровень теоретического обобщения.
С лосевской точки зрения, книги V-VII – это не структурный эпизод, а содержательная кульминация, где исходные понятия единства и справедливости раскрывают свою полную и предельную смысловую глубину. Вместо «вставки» мы имеем дело с развертыванием внутренней логики самого предмета обсуждения.
Акцент В.С. Нерсесянца, как философа права, позволяет увидеть в книгах V–VII не просто кульминацию политической теории, а конкретизацию концепции политико-правового идеала Платона. С его точки зрения, здесь абстрактная модель обретает функциональные механизмы реализации, превращаясь из теоретического построения в проект управления.
1. Переход от «справедливости-как-гармонии» к «справедливости-как-закону» (пусть и неписаному). Если в первых книгах справедливость – это результат правильного распределения социальных ролей, то в V книге Платон через фигуру философа-правителя вводит интеллектуальный источник и гаранта этой справедливости. Нерсесянц подчеркивает, что для Платона подлинное право и закон проистекают из знания об Идее Блага. Следовательно, книги V–VII обосновывают эпистемократию (власть знания) как единственно легитимную форму правления, где законом является не мнение большинства, а объективная истина, познанная правителем. Это – квинтэссенция платоновского правового идеализма.
2. Принципы управления как основа стабильности. Радикальные социальные проекты (общность жен и детей, отмена частной собственоты у стражей) Нерсесянц интерпретирует не как утопические мечтания, а как строгие управленческие технологии, направленные на решение ключевой для любого государства проблемы: нейтрализацию частных интересов, подрывающих общественное благо. Это проект создания бескорыстного и абсолютно лояльного правящего класса, чьи личные интересы тождественны интересам государства. Таким образом, единство достигается не на уровне деклараций, а на уровне конструирования соответствующей человеческой природы через социальные институты.
3. Система образования как правовой фундамент. Важнейшим вкладом книг V–VII Нерсесянц считает разработку единой государственной системы воспитания и образования. Это не просто педагогика, а ключевой правовой и политический институт, обеспечивающий воспроизводство стража и, что главное, философа-правителя. Законодательное закрепление образовательных программ (гимнастика, музыка, а затем и диалектика) показывает, что Платон понимал: устойчивость государства определяется не силой принуждения, а качеством «человеческого материала», формируемого с детства.
По Нерсесянцу: Таким образом, для В.С. Нерсесянца книги V–VII – это проект перехода от теории к практике, где формулируются основные законы и принципы функционирования идеального государства (πολιτεία). Это кульминация не только политической, но и философско-правовой мысли Платона, где знание (философия) становится непосредственной основой власти и главным источником права.
Зарубежные исследования:
Аргументация Дж. Эннс является одной из самых влиятельных в современной западной науке для опровержения «теории эпизода». Ее подход позволяет увидеть смысловую и драматургическую взаимосвязь между ключевыми сюжетами диалога.
1. Ответ на вызов Главкона и Адиманта. Эннс подчеркивает, что весь диалог начинается с радикального вызова: братья Платона, Главкон и Адимант, просят Сократа защитить справедливость как таковую, показав, что она ценна не только своими последствиями (почести, награды), но сама по себе, для души ее обладателя. Построение «города в речи» – это первый шаг к ответу. Однако модель «здорового» города из книг II-IV оказывается недостаточной. Она функциональна, но не идеальна. Вопрос Адиманта в начале V книги («А как же обстоит дело с женщинами и детьми?») – это не случайное любопытство, а логическое продолжение исходного вызова. Чтобы доказать внутреннюю ценность справедливости, нужно показать ее воплощение в самой совершенной и, следовательно, радикальной форме. Таким образом, «эпизод» – это прямой ответ на главный вопрос всего диалога.
2. «Реализуемость» (πραγματεία) как критерий состоятельности модели. Эннс акцентирует внимание на том, что Платон вводит crucial критерий: идеальное государство должно быть не просто логически непротиворечивым, но и возможным в принципе (хотя бы и в отдаленном будущем). Без этого условия вся конструкция повисает в воздухе как красивая, но бесплодная фантазия. Знаменитая фраза «пока в городах не будут царствовать философы…» – это не утопическое мечтание, а, по Эннс, формулировка необходимого и достаточного условия реализуемости. Без этого условия модель не просто нереализуема – она теряет свою силу аргумента против Главкона, так как остается лишь мысленным экспериментом, не имеющим отношения к реальной человеческой природе и политике.
3. Связь с теорией души. Важнейший аспект, на который указывает Эннс, – это параллель между государством и душой. Книги V-VII, описывая радикальное переустройство государства, по сути, готовят почву для аналогии в книге IX, где Сократ показывает, как выглядит справедливая душа, управляемая разумом (философским началом). Без детального описания того, что значит «правление разума» на уровне полиса, аналогия на уровне индивида была бы непонятна и неубедительна. Поэтому «эпизод» обеспечивает метафизическое и психологическое обоснование основной аналогии диалога.
Вывод по Эннс: Таким образом, для Дж. Эннс книги V-VII – это не вставка, а смысловой стержень всего «Государства». Они выполняют три критически важные функции:
⦁ Дают окончательный, радикальный ответ на вызов о природе справедливости.
⦁ Вводят критерий реализуемости, который придает политической модели философскую и практическую весомость.
⦁ Создают основание для ключевой аналогии между справедливым полисом и справедливой душой, которая является кульминацией защиты Сократом справедливости.
Интерпретация М.Ф. Бернайса представляет собой один из самых глубоких и целостных взглядов на «Государство». Он смещает акцент с чисто политического или этического прочтения на культурно-антропологическое, видя в проекте Платона грандиозную попытку преобразования человеческой природы.
«Конструирование культуры» как политическая задача. Бернайс идет дальше многих интерпретаторов, утверждая, что Платон в книгах V-VII занимается не просто социальной инженерией, а сознательным проектированием всей культуры полиса. Реформы касаются не только институтов власти, но и самых глубоких слоев человеческой жизни: отношений между полами, воспитания детей, искусства, музыки, поэзии и, наконец, самого мышления через диалектику. Цель этих реформ – создать такую культурную среду («пайдейю»), которая бы автоматически и незаметно формировала тип личности, необходимый для существования справедливого государства. Таким образом, политика для Платона, по Бернайсу, – это, прежде всего, культурная политика.
Единство двух проектов: «снизу вверх» и «сверху вниз». Бернайс блестяще показывает, что реформа стражей и образование философов – это не два разных этапа, а взаимодополняющие стратегии, работающие в двух направлениях:
Проект «снизу вверх»: Это воспитание стражей через музыку, гимнастику и строгий контроль над мифами. Его цель – сформировать «характер» (ἦθος), основанный на правильных мнениях и благородных эмоциях, создать прочный фундамент для государства.
Проект «сверху вниз»: Это образование философов через математику и диалектику. Его цель – достижение подлинного знания (ἐπιστήμη) Идеи Блага, которое затем будет направлять и обосновывать все законы и установления полиса.
Оба проекта сходятся в одной цели: перестройке человеческой природы, но действуют на разных уровнях – на уровне «характера» и на уровне «разума».
Критика традиционного греческого этоса. С точки зрения Бернайса, радикализм Платона заключается в его осознанной полемике с ключевыми ценностями классической Греции. Идеи общности жен и детей – это вызов традиционной семье (οἶκος) как основной ячейке общества. Отмена частной собственоты у стражев – вызов культуре соревновательности (φιλοτιμία) и личному обогащению. Утверждение, что женщина может быть стражем, – вызов патриархальным представлениям. Таким образом, Платон не просто строит утопию; он предлагает альтернативу всей современной ему афинской культуре, которую считает порочной в своей основе.
Вывод по Бернайсу: Для М.Ф. Бернайса книги V-VII – это не просто «сердцевина», а самый радикальный и новаторский элемент платоновской мысли. Это проект создания новой, искусственной, но более совершенной «человеческой природы» через всеобъемлющий контроль над культурой, воспитанием и знанием. Платон, по сути, ставит вопрос: какой должна быть культура, чтобы в ней мог появиться и существовать справедливый человек? Ответ на этот вопрос и содержится в знаменитом «эпизоде», что делает его абсолютно необходимым для замысла всего диалога.
Альтернативные дополнения
Переход от структуры к духу государства.Пятая книга «Государства» Платона знаменует собой переход от проектирования формальной структуры идеального полиса к формированию его внутреннего духа.
Аргументация:
1. Предыдущий этап (Книги II-IV): Была выстроена трехчастная модель общества, основанная на принципе специализации («каждому – свое»), и определены добродетели каждой из частей (мудрость, мужество, умеренность).
2. Содержание перехода (Книга V): Фокус смещается с институционального каркаса на вопрос о духе (κοινωνία), который должен оживить эту структуру. Для этого Платон предлагает радикальные меры, применяемые к сословию стражей: отмену частной собственности, ликвидацию постоянной семьи и введение общности жен и детей.
3. Конечная цель: Данные меры направлены на полное искоренение частных интересов и создание абсолютного политического и духовного единства, где государство становится подобным «одному человеку».
4. Значение перехода: Это качественно новый шаг в построении теории. Платон переходит от абстрактной теории справедливости как гармонии между частями к практике создания коллективной идентичности, требующей тотального самоотречения индивида ради целого. Этот шаг логически подводит к необходимости фигуры философа-правителя, способного постичь Благо и воплотить этот «дух» в жизнь (Книги VI-VII).
Дополнения из библиографических источников
Отечественные исследования:
Согласно глубокой интерпретации А. Ф. Лосева, радикальные проекты V книги «Государства» – это не произвольная утопия, а следствие строгой логической дедукции, вытекающей из самого понятия «справедливость», как оно было определено ранее. Поскольку справедливость полагается как неукоснительное выполнение своей функции каждой частью целого (классами в государстве, началами в душе), то для стражей, чья функция есть исключительно служение общему благу, любая частная привязанность (к собственности, семье) становится непреодолимой помехой, источником конфликта интересов. Таким образом, предлагаемые Платоном меры – это доведение принципа специализации (или «принципа своевлия») до его логического абсолюта, необходимое для создания того самого «духа» единства (κοινωνία), который должен оживить формальную структуру полиса.
Углубление:
1. Онтологическое обоснование: подражание Единому.
Для Лосева, как для неоплатоника, логика Платона имеет не только этический, но и онтологический фундамент. Идеальное государство – это макрокосм, отражающий структуру бытия. Высшее благо (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα) – это принцип единства и порядка. Справедливый полис должен максимально уподобиться этому единству. Частная собственность и семья создают «множественность» и «раздробленность», которые являются онтологическим несовершенством. Упраздняя их для стражей, Платон не просто устраняет конфликт интересов, но и конструирует политическое тело, максимально приближенное к вечной и неизменной гармонии мира идей. Радикализм V книги – это, по Лосеву, прямое следствие метафизического требования к единству.
2. «Снятие» частного во имя целого: диалектический подход.
Лосев подчеркивает, что Платон не просто уничтожает частную жизнь, а снимает её (в гегельянском смысле Aufhebung) в жизни общественной. Речь идет не об аскетической бедности, а о трансформации понятия «свое». Для стража «своим» становится не конкретный дом или ребенок, а все государство в целом, все его граждане. Его патриотизм – это не абстрактное чувство, а конкретная, жизненная связь, замещающая кровно-родственные узы. Таким образом, коммунизм стражей – это инструмент для переключения человеческой энергии с узкоэгоистических целей на универсальные.
3. Гносеологический аспект: воспитание философского сознания.
Цель стражей – стать правителями-философами, то есть созерцать идеи. Частные привязанности привязывают сознание к миру становления, к «пещере» чувственных вещей. Освобождение от семьи и собственности – это необходимое условие для «поворота от тенеподобного бытия к истинному» (аллегория пещеры). Это аскеза, очищающая душу и подготавливающая ее к познанию абсолютного Блага. Поэтому радикальные меры – не просто социальная инженерия, а часть гносеологической программы по выращиванию субъекта, способного к объективному знанию.
4. Критический контекст и контрarguments.
Расширяя мысль Лосева, важно поместить ее в диалог с критикой:
⦁ Аристотель: Критиковал платоновский проект именно за его чрезмерный логицизм и пренебрежение человеческой природой. Он утверждал, что отмена семьи ведет к охлаждению любви («принадлежащее всем ни о ком не заботится»), а общность имущества – к ссорам, а не к единству. Лосев же мог бы парировать, что Аристотель мыслит в категориях наличного человеческого бытия, тогда как Платон проектирует условия для рождения нового типа человека – полностью политизированного существа.
⦁ Карл Поппер: Увидел в «Государстве» истоки тоталитаризма, где индивид полностью растворен в государстве. С позиции Лосева, это модернистское прочтение, игнорирующее teleological character античной мысли: благо целого объективно является высшим благом для части, поскольку часть (индивид) реализует свою сущность только в правильно устроенном целом. Это не тирания, а органицистская модель гармонии.
5. Связь с современными дискуссиями.
Интерпретация Лосева позволяет увидеть в проекте Платона не просто исторический курьез, а радикальную постановку вечных вопросов:
⦁ Границы личной свободы и требований общественного блага.
⦁ Конфликт между лояльностью семье и лояльности государству (или человечеству).
⦁ Проблема «инженерного» подхода к обществу: где грань между разумной организацией и насилием над человеческой природой?
Интерпретация А. Ф. Лосева позволяет увидеть в радикализме V книги «Государства» не произвол, а системное, логически и онтологически обоснованное ядро всей платоновской философии. Это проект преодоления человеческой «частности» ради достижения высшего, объективного блага, реализуемый через доведение до предела ключевых принципов – справедливости, специализации и единства. Критика этого проекта лишь подчеркивает его фундаментальный характер и ту цену, которую, по мнению Платона, необходимо заплатить за создание совершенного полиса.
[Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., 1969].
С точки зрения философии права, которую развивает В. С. Нерсесянц, платоновский проект предстает как последовательное отрицание автономии индивида. Анализируя меры, предложенные в V книге, ученый квалифицирует их как тоталитарные, поскольку они направлены на полное поглощение личности государством и умаление частного права. С этой позиции, формируемый Платоном «дух» единства (κοινωνία) является не чем иным, как духом тотальной коллективизации, где государство становится единственным легитимным субъектом права и морали, а индивид превращается в простой функциональный придаток целого. [Нерсесянц В.С. Платон. – М., 1984].
Критика Нерсесянца основана на фундаментальных принципам либеральной философии права, в центре которой стоит автономная личность как первоисточник права и носитель неотчуждаемых прав и свобод. С этой точки зрения, государство Платона представляет собой не просто утопию, а систематическое отрицание самих основ правового государства.
1. Отрицание субъектности индивида и частного права
Ключевой тезис Нерсесянца заключается в том, что Платон радикально умаляет правовой статус индивида.
⦁ Индивид как функция: В идеальном полисе индивид (прежде всего страж) лишается качества самостоятельного субъекта права (persona iuris). Его существование оправдано только в той мере, в какой он выполняет свою функцию для целого. Он является не «целью», а «средством» благополучия государства.
⦁ Упразднение частной сферы: Право, по своей сути, возникает и действует в сфере «частного» – для разграничения интересов, собственности, личных обязательств. Меры V книги (отмена семьи, собственности) ликвидируют саму материю, на которой произрастает право. Если нет «моего» и «твоего», то исчезает почва для имущественных, семейных, наследственных прав – то есть для большей части того, что составляет содержание права в традиционном понимании.
2. Государство как тотальный и единственный субъект права и морали
Уничтожив частноправовую сферу, Платон, по Нерсесянцу, концентрирует всю нормативность в государстве.
⦁ Монополия на нормотворчество: Государство становится единственным источником морали и «правильности». Понятия добра, зла, справедливости определяются исключительно интересами полиса. То, что полезно государству, – морально; что вредно – аморально. Это этический этатизм в чистом виде.
⦁ «Дух» единства как идеология: Формируемый «дух» единства (κοινωνία) – это не органическая солидарность, а идеологический конструкт, насаждаемый сверху для легитимации тотального контроля. Это дух, не оставляющий пространства для инакомыслия, приватности или личного выбора, которые являются необходимыми условиями существования права.
3. Квалификация как тоталитаризма
Нерсесянц использует термин «тоталитарный» не как эмоциональную метафору, а как строгую политико-правовую категорию. Платоновский проект соответствует ключевым критериям тоталитаризма:
⦁ Всеобъемлющий контроль: Государство регулирует все сферы жизни, включая самые интимные (брак, деторождение, воспитание).