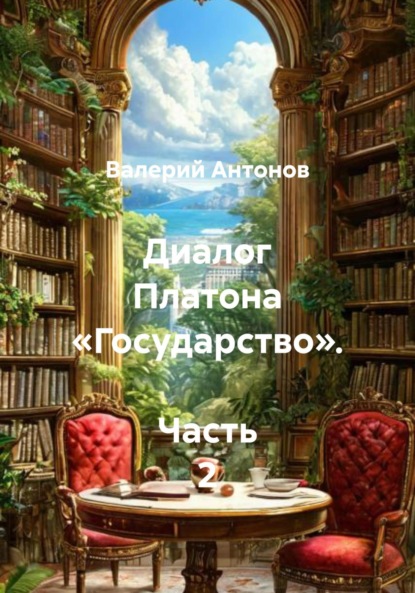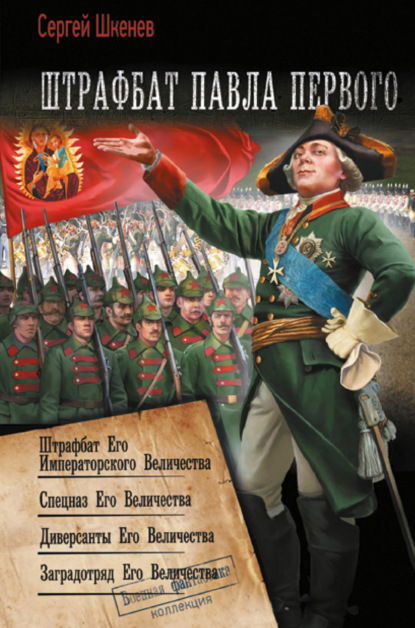- -
- 100%
- +
⦁ Отсутствие частной жизни: Граница между публичным и частным стирается. Жизнь индивида становится полностью прозрачной и подконтрольной полису.
⦁ Идеологическая монополия: Существует только одна обязательная для всех идеология – идеология служения государству.
⦁ Отрицание индивидуальных прав: Индивид не обладает правами, которые он мог бы противопоставить государству.
4. Противопоставление: Платон vs. Правовое Государство (Rechtsstaat)
Критика Нерсесянца становится особенно ясной при сравнении модели Платона с моделью правового государства:
Критерий Государство Платона (по Нерсесянцу) Правовое Государство (Идеал)
Высшая ценность Целостность и единство полиса. Достоинство и права человека.
Роль индивида Функциональный элемент целого. Автономный субъект, цель и основа государства.
Право Инструмент государства для обеспечения единства. Самостоятельная ценность, ограничивающая власть государства.
Частная сфера Отсутствует или минимизирована. Неприкосновенна; защищена законом.
Справедливость Правильное выполнение своей функции в иерархии. Равенство всех перед законом и обеспечение прав.
5. Связь с вашим тезисом о «духе»
Интерпретация Нерсесянца дает критический ответ на ваш тезис о «духе», оживляющем структуру.
⦁ «Дух» как анти-дух права: Если для Платона этот «дух» – благо, то с правовой точки зрения – это «дух» антиправовой, антилиберальный. Это не дух свободы и самоуправления, а дух тотального подчинения.
⦁ Цена единства: Нерсесянц показывает, какую цену платит платоновский полис за достижение абсолютного единства: цену является сама личность с ее правами и свободами. Таким образом, проект V книги демонстрирует фундаментальный конфликт между ценностью коллективного единства и ценностью индивидуальной автономии.
С точки зрения В.С. Нерсесянца, Платон в V книге «Государства» создает не модель идеальной справедливости, а философское обоснование тоталитаризма. Его проект является радикальным отрицанием автономии индивида и частного права, возводя государство в абсолютного и единственного суверена. Эта критика ставит перед нами один из самых острых вопросов политической философии: может ли общественный идеал, достигнутый ценой уничтожения личности, считаться справедливым? Для Нерсесянца, как для философа права, ответ очевидно отрицательный.
Зарубежные исследования:
Дж. Эннс (J. Annas) в своей классической работе «An Introduction to Plato's Republic» предлагает рассматривать шоковый эффект от предложений V книги как важный элемент диалектической и педагогической стратегии Платона. Согласно этой точке зрения, радикальные меры (общность жен и детей) призваны выполнить провокативную функцию: заставить читателя задуматься о фундаментальном противоречии между личным счастьем и благом государства. Демонстрируя, что справедливость, требуемая от стражей, сопряжена с колоссальной личной жертвой и отречением от частной жизни, Платон сознательно обостряет центральную проблему всего диалога – является ли справедливость сама по себе благом для ее носителя. Таким образом, V книга не просто описывает институты, но ставит под сомнение исходный тезис о том, что справедливый человек неизбежно счастлив, вынуждая адресата диалога искать более глубокое обоснование этого утверждения. [Annas, J. An Introduction to Plato's Republic. Oxford, 1981].
М. Ф. Бернабес (M. F. Burnyeat) предлагает рассматривать проект V книги как глубинную когнитивную и воспитательную реформу (παιδεία). Согласно его интерпретации, Платона интересует не просто изменение социальных институтов, но фундаментальная перестройка самого человеческого сознания и структуры эмоций. Уничтожение институтов частной собственности и семьи имеет своей конечной целью искоренение у стражей самой психологической возможности различения между «своим» (τὸ ἴδιον) и «чужим». Эта «эпистемологическая хирургия» призвана создать новую ментальность, в которой идентичность индивида тождественна идентичности полиса, а его познавательные и аффективные способности целиком ориентированы на целое. [Burnyeat, M.F. Culture and Society in Plato's Republic. The Tanner Lectures on Human Values, 1999].
Концепция «когнитивной реформы» (cognitive reform) или, что точнее, «перестройки сознания», предлагаемая Бернабесом, является ключом к пониманию радикализма V книги. Ее можно раскрыть через несколько взаимосвязанных тезисов.
1. Παιδεία как «перепрограммирование» сознания
Для Платона παιδεία (воспитание, образование) – это не просто передача знаний, а процесс формирования самой личности, ее ценностных ориентаций и когнитивных установок. Бернабес идет дальше и показывает, что в V книге παιδεία принимает форму целенаправленного конструирования нового типа ментальности.
⦁ Цель: Искоренить не просто поведение, а саму возможность возникновения определенных мыслей и эмоций. Речь идет о том, чтобы сделать стража психологически неспособным чувствовать что-либо как «исключительно свое».
⦁ Метод: Уничтожение основных институтов, которые являются источниками и катализаторами чувства собственности и приватности. Семья и частная собственность – это не просто обычаи; это «фабрики» по производству установки на «мое» (τὸ ἴδιον). Убрав их, Платон лишает сознание стражей «питательной среды» для частных интересов.
2. «Эпистемологическая хирургия»: Удаление понятий «мое» и «чужое»
Метафора «эпистемологической хирургии» (epistemological surgery), которую вы удачно используете, очень точна. Бернабес argues, что Платон проводит операцию по удалению из лексикона и, что важнее, из эмоционального опыта стражей фундаментальной бинарной оппозиции – «свое/чужое» (my/your, own/alien).
⦁ Почему это важно? Эта оппозиция лежит в основе всех частных интересов, конфликтов, зависти и несправедливости. Именно различение «моего ребенка» и «чужого», «моего имущества» и «чужого» порождает эгоизм и разобщенность.
⦁ Результат операции: Создается сознание, для которого вся община стражей – это одна большая семья, а все блага полиса – общие. Стражец физически не сможет сказать «мой сын» или «мой дом», потому что у него не будет для этого ни социальных, ни психологических оснований. Его когнитивная карта мира будет содержать только одну релевантную категорию – «наше» (τὸ κοινόν).
3. Создание «Коллективного Субъекта Познания»
Это самый глубокий уровень интерпретации Бернабеса. Реформа направлена не только на мораль, но и на сам процесс познания.
⦁ Искажение восприятия: С точки зрения Платона, привязанность к частному искажает познавательные способности. Человек, поглощенный личными заботами, видит мир не объективно, а через призму своей выгоды («Это полезно для меня?»). Это мешает постижению универсальных истин и Идей (например, самой Справедливости или Блага).
⦁ Очищенное сознание для восприятия Блага: Стражец, лишенный частных интересов, обладает «очищенным» сознанием. Его разум не «зашумлен» личными аффектами. Поэтому такое сознание является идеальным инструментом для последующего философского образования. Оно уже предрасположено к постижению общего блага, потому что привыкло мыслить исключительно общими категориями. Таким образом, когнитивная реформа V книги – это необходимая пропедевтика к онтологическому откровению книг VI-VII. Философ-правитель должен сначала пройти через эту «хирургию», чтобы его разум мог адекватно устремиться к Идее Блага.
4. Связь с вашим основным тезисом о «духе» государства
Интерпретация Бернабеса идеально поддерживает и углубляет ваш тезис:
⦁ «Дух» как ментальная программa: Если «дух» государства – это нечто, что «оживляет» формальную структуру, то, по Бернабесу, этим «духом» является единая, коллективная ментальность стражей. Это не абстрактная идея, а реальная, сконструированная воспитанием структура сознания каждого индивида в правящем классе.
⦁ От структуры к психике: Переход, который вы фиксируете, – это переход от проектирования социальных ролей (кто что делает) к проектированию внутреннего мира людей, которые будут исполнять эти роли. Платон понимает, что для работы идеального государства нужны не просто функционеры, а «новые люди» с радикально перестроенной психикой.
Интерпретация Бернабеса показывает, что проект V книги – это продуманная антропологическая и психологическая модель. Платон через тотальную παιδεία стремится создать не просто справедливые институты, а новый тип человеческого существа, чья когнитивная и эмоциональная жизнь полностью тождественна жизни полиса. Это придает платоновскому идеализму не только политическое, но и глубокое психотехническое измерение.
Введение эпистемологического критерия. Ключевой поворот пятой книги «Государства» Платона – это введение фигуры философа-правителя, что знаменует переход от понимания управления как вопроса добродетели к вопросу знания (эпистемы). Заявление Сократа о том, что пока «философы не станут царями…», является не просто ответом на вопрос о реализуемости, а введением эпистемологического критерия в политику. Этот критерий, как показывают исследования (Асмус, Лосев), основан на онтологическом превосходстве философа, познавшего мир идей. Зарубежные интерпретации (такие как у Аннас или критика Поппера) видят в этом либо утопический стандарт для оценки власти, либо опасный авторитаризм. В границах самой пятой книги это введение дополняется такими аспектами, как проблема практического применения знания, обоснование гендерного равенства на основе природных способностей и противопоставление истинного знания тирании общественного мнения. Таким образом, V книга закладывает фундамент платоновской политической эпистемологии, где власть легитимируется исключительно доступом к истине.
Дополнения из библиографических источников
Отечественные исследования:
⦁ В.Ф. Асмус в работе «История античной философии» подчеркивает, что платоновский философ является правителем не в силу происхождения или желания властвовать, а благодаря прирожденным способностям, развитым длительным образованием, направленным на постижение идеи Блага. Это знание позволяет ему принимать решения, истинные для всего полиса, а не для частных интересов.
⦁ А.Ф. Лосев в комментариях к «Государству» указывает на онтологическое обоснование этой идеи. Философ-правитель созерцает подлинное бытие (мир идей), в то время как обычный человек довольствуется мнениями о мире становления. Таким образом, власть философа – это власть истины над неведением, порядка над хаосом.
Зарубежные исследования:
⦁ Джулия Аннас в книге «An Introduction to Plato's Republic» акцентирует, что требование Платона радикально и сознательно утопично. Его цель – не предложить практический план реформ, а установить стандарт («парадигму в душе», как говорит Платон), по которому следует оценивать любую реальную форму правления. Эпистемологический критерий служит именно этому – он показывает, что любая власть, не основанная на знании, по определению несовершенна.
⦁ Карл Поппер в «Открытом обществе и его врагах» дает критическую оценку. Он интерпретирует идею философа-правителя как введение эпистемологического авторитаризма. Поппер утверждает, что Платон подменяет проблему политических институтов и критического обсуждения проблемой нахождения «мудреца», что ведет к закрытому, тоталитарному обществу, где лишь один обладает монополией на истину.
Альтернативные дополнения
Помимо введения эпистемологического критерия, в пятой книге можно выделить еще несколько ключевых аспектов, которые развивают эту тему:
⦁ Проблема «двойного знания» философа. Философ не только обладает знанием вечных истин, но и, в отличие от стерильного созерцателя, способен применять это знание в изменчивом мире политики. Это требует от него еще одного типа знания – практической мудрости (фронесис), чтобы соотносить идеал с реальностью. Диалог намечает, но не раскрывает полностью эту диалектику.
1. Знание как «Навигация»: от созерцания Идеи Блага к управлению частным.
⦁ Метафора корабля (из VI книги) помогает прояснить эту связь. Кормчий (философ) не просто созерцает звезды (вечные идеи) – он использует это знание для прокладки курса в бурном море (политической реальности). Идея Блага является для него не просто объектом умозрения, а руководящим принципом. Познав, что есть благо само по себе, он получает критерий для оценки всех частных благ и действий в государстве.
⦁ Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подчеркивает, что у Платона онтология (учение о бытии) неразрывно связана с праксиологией (учением о действии). Философ, узревший истину, по определению не может оставаться пассивным, ибо его долг – «оседлать» хаотичную материю и привести ее к подобию порядка идеального мира. Таким образом, применение знания – это не дополнительный навык, а морально-эпистемологическая необходимость, вытекающая из самого знания.
2. Диалектика как метод применения.
⦁ Платон не случайно делает диалектику высшей ступенью образования. Это не только метод восхождения к идеям, но и искусство «нисхождения» – умение правильно разделять и соединять понятия, что является основой для принятия решений в конкретных ситуациях. Философ, обученный диалектике, способен «увидеть» отблеск идеи в эмпирическом факте и классифицировать его согласно истинному знанию, а не мнению.
3. Почему проблема остается не до конца раскрытой? Критика извне.
⦁ Аристотель и «фронесис»: Именно ваш тезис о необходимости фронесиса становится центральным пунктом критики Аристотеля. Он прямо указывает, что платоновское знание об идеях – это эпистеме или даже софия (мудрость), которая сама по себе не говорит, как поступать в конкретных обстоятельствах. Для управления полисом требуется именно фронесис – практическая рассудительность, приобретаемая через опыт и направленная на изменчивые человеческие дела. Аристотель считает, что Платон не смог удовлетворительно объяснить переход от одного типа знания к другому.
⦁ Современные интерпретации (напр., Марта Нуссбаум): Нуссбаум в работе «Хрупкость доброты» развивает эту критику. Она утверждает, что платоновский идеал знания стремится к защите от случайностей мира, тогда подлинная практическая мудрость требует вовлеченности в эти случайности и уязвимости перед ними. Таким образом, разрыв между чистым знанием и практическим действием в модели Платона может быть фундаментальным.
Проблема «двойного знания» – это не просто незавершенная мысль, а сознательная апория, вытекающая из самой структуры платоновской философии. Платон предлагает не техническое решение («как именно применять»), а онтологическое обоснование права на власть: только тот, кто видит цель (Идею Блага), может верно направлять движение к ней. Однако механизм этого «направления» в изменчивом мире действительно остается в значительной степени делегированным личным качествам философа – его добродетели и рассудительности, – которые, как предполагается, неразрывно следуют из его знания. Это оставляет пространство для критики со стороны тех, кто, как Аристотель, настаивает на автономии и важности практической мудрости (фронесиса).
⦁ Эпистемологическое обоснование гендерного равенства. Платон распространяет критерий знания на женщин, утверждая, что способность к философии и управлению зависит не от пола, а от природных задатков души. Это прямое следствие эпистемологического подхода: если править должен тот, кто знает, то пол правителя не имеет значения.
⦁ Знание как противовес тирании мнения (доксы). В пяой книге Платон начинает полемику с софистами, которые отождествляют знание с убеждением толпы. Фигура философа-правителя вводится как антитеза демагогу, который лишь льстит «великому зверю» – народу, не обладая подлинным пониманием блага.
⦁ Образ пещеры как эпистемологическая метафора права на власть. Хотя аллегория пещеры приводится в седьмой книге, ее основание закладывается здесь. Философ – это тот, кто вышел из пещеры и увидел свет истины. Его обязанность и право управлять проистекают из этого эпистемологического превосходства и морального долга вернуться к узникам, даже против их воли.
1. Методологический сдвиг: «три волны». Сама структура V книги, построенная как преодоление «трех волн» насмешек, значима. Это риторический прием, показывающий, что Платон осознает радикальность своих идей. «Волны» – это не просто темы, а последовательные уровни критики общепринятых представлений (о роли женщин, о семье, о природе правителя), которые необходимо опровергнуть, чтобы двигаться дальше. Таким образом, V книга – это не эпизод, а критический диалог с современной Платону действительностью, без которого модель государства остается неполной.
Таким образом, интерпретация V книги (и последующих VI-VII) как «эпизода» может быть оспорена путем демонстрации ее логической, эпистемологической и риторической необходимости в общей архитектонике «Государства».
1. Радикализм в историческом контексте:
⦁ В V-IV вв. до н.э. в Афинах положение женщины было крайне ограниченным. Они не обладали политическими правами и были практически исключены из публичной сферы. На этом фоне предложение Платона допустить женщин-стражниц и философов было революционным.
⦁ Его аргументация была не моральной («это справедливо»), а функционально-утилитарной. Он утверждает, что общество, исключающее талантливых людей от управления лишь на основании пола, действует неэффективно и вопреки собственной пользе. Это аргумент от «природных задатков» (φύσις – фюсис), которые распределяются независимо от пола.
2. Современные интерпретации: феминистская критика и апроприация:
⦁ Критика инструментальности и отрицания «женского»: Многие современные феминистские исследователи (например, Джин Бетке Элштайн) указывают на двойственность платоновского подхода. С одной стороны, он провозглашает равенство. С другой, это равенство достигается ценой ассимиляции под мужскую норму. Женщина-стражница должна быть «не хуже мужчины», она получает то же образование, включая гимнастику, и живет в тех же условиях, отрицающих традиционную семью. Платон не ценит «женские» качества; он предлагает женщинам стать подобными мужчинам-философам. Его равенство – это равенство в рамках маскулинной модели рациональности и добродетели.
⦁ Аргумент от общего блага (зарубежный исследователь М.Ф. Бёрнета): Бёрнет подчеркивает, что для Платона божественное и разумное в человеке (душа) бесполо. Поэтому включение женщин в класс стражей – это логическое следствие его психологии и теологии. Цель государства – воплощение справедливости и блага, а для этого необходимо использовать все доступные таланты, невзирая на телесные различия.
3. Ограничения и противоречия платоновского равенства:
⦁ «Слабость породы»: Несмотря на радикальный тезис, у Платона проскальзывают традиционные для его эпохи предрассудки. В том же V книге он оговаривается, что среди женщин в целом сильны такие качества, как склонность к роскоши и слабость, и что «все женское… можно считать относительно мужского слабым». Таким образом, его равенство – это равенство потенциально, для лучших представительниц пола, которые по своей природе («породе») не уступают мужчинам.
⦁ Утопичность и абстрактность: Это равенство реализуемо только в идеальном, абстрактно сконструированном государстве-парадигме. Платон не призывает к реформам в современных ему Афинах. Его проект – это мысленный эксперимент, выводящий следствия из эпистемологического принципа, но не практическая политическая программа.
Эпистемологическое обоснование гендерного равенства у Платона – это мощный, но парадоксальный аргумент.
⦁ С одной стороны, это триумф универсального разума над частными телесными различиями. Логика аргументации, исходящая из природы души и знания, делает пол политически незначимым, что было грандиозным прорывом для античной мысли.
⦁ С другой стороны, это равенство является условным и ассимилятивным. Оно не признает ценности женственности как таковой, а предлагает женщинам соответствовать маскулинному эталону правителя-философа. Более того, оно ограничено оговорками о «слабости породы» и реализуемо лишь в утопическом контексте.
Таким образом, V книга «Государства» предлагает не столько программу эмансипации, сколько логический коррелят основной эпистемологической thesis: если власть есть знание, а знание бесполо, то и власть должна быть бесполой. Это принцип, который опередил свое время, но несет в себе черты как радикализма, так и ограниченности античного мировоззрения.
2: Критика точки зрения Шлейермахера: эпизод как необходимость
⦁ Содержание: Автор оспаривает эту позицию. Он утверждает, что содержание V-VII книг не является лишним или случайным. Напротив, эти книги необходимы для завершения учения о государстве. Идея блага, занимающая центральное место в этих книгах, представляет собой «прекраснейшее украшение» всего произведения, от которого зависят и справедливость, и совершенное состояние полиса.
1. Позиция Ф. Шлейермахера и её основания
Немецкий философ и филолог Фридрих Шлейермахер в своих знаменитых «Введениях» к диалогам Платона (начало XIX века) выдвинул гипотезу, что V-VII книги являются позднейшей интерполяцией, нарушающей первоначальный замысел. Его аргументы сводились к следующему:
⦁ Композиционный разрыв: После того как определение справедливости найдено в IV книге (как гармония трех частей души и, по аналогии, трех сословий государства), диалог логически завершен. Внезапный поворот к вопросам общности жен и детей, а затем к теории идей и идее Блага выглядит как новая, отдельная тема.
⦁ Стилистические различия: Шлейермахер усматривал в этих книгах иной, более монологический и догматический стиль, отличный от более «сократического» начала диалога.
⦁ Восприятие «утопичности»: Он считал, что первоначальный проект Платона был более практичным и касался внутренней справедливости души, а масштабные утопические проекты V-VII книг – это позднее и не совсем органичное добавление.
2. Содержание критики этой позиции (развернутое)
Критики Шлейермахера, к которым присоединяется и большинство современных исследователей, утверждают, что V-VII книги не просто «украшение», а концептуальный и структурный стержень всего произведения. Их необходимость вытекает из незавершенности аргументации IV книги.
⦁ Ответ на фундаментальный вызов: Завершение IV книги вызывает очевидный и мощный вопрос, который и задают собеседники Сократа в начале V книги: «А реализуемо ли это государство?». Без ответа на этот вопрос вся конструкция повисает в воздухе как красивая, но бесплодная фантазия. Таким образом, V книга не начинают новую тему, а отвечает на имплицитный критический вызов, без которого диалог не может считаться завершенным.
⦁ Эпистемологическое основание справедливости: Определение справедливости в IV книге – это описание её структуры («что это такое»). Но оно не дает ответа на вопрос «почему именно эта структура является благом?» и «как достичь такого состояния?». Ответ на эти вопросы требует выхода на мета-уровень – уровень знания о самом Благе. Только тот, кто познал Идею Блага (философ), может обосновать, почему справедливость лучше несправедливости, и реализовать её в полисе. Поэтому учение об Идее Блага – это не украшение, а фундамент, на котором стоит всё здание платоновской политической теории.
⦁ Диалектическое развитие концепции: Диалог развивается диалектически: тезис (определение справедливости в простом городе) → антитезис (вопрос о реализуемости и вызов софистических взглядов на природу человека) → синтез (радикальный ответ: для реализации справедливости требуется преобразование человеческой природы через познание абсолютной истины, т.е. философ-правитель). V-VII книги – это и есть этот синтез.
3. Современный консенсус и альтернативные взгляды
⦁ Консенсус: Сегодня точка зрения Шлейермахера считается устаревшей. Современное платоноведение (например, в работах Дж. Аннас или Т. Ирвина) единодушно рассматривает «Государство» как целостное произведение, где этические (кн. I-IV), политические (кн. V) и метафизико-эпистемологические (кн. VI-VII) части взаимно обусловлены.
⦁ Интерпретация «Государства» как произведения о душе: Существует также влиятельная точка зрения (её отстаивал, в частности, М.Ф. Бёрнета), согласно которой главный предмет «Государства» – это не политика, а душа человека. Государство является лишь ее крупномасштабной моделью («увеличенной буквой»). С этой позиции, V-VII книги абсолютно необходимы, так как они показывают, что подлинная справедливость и благо для души достижимы только через восхождение к философскому знанию, к созерцанию идеи Блага. Политический проект, таким образом, служит метафорой внутреннего преобразования личности.
Критика взглядов Шлейермахера обоснованно утверждает, что V-VII книги – это не случайное дополнение, а логически необходимое завершение проекта «Государства». Они:
1. Дают ответ на ключевой вопрос о реализуемости идеала.