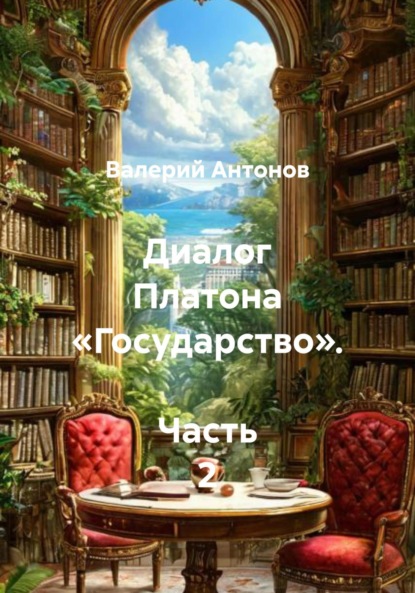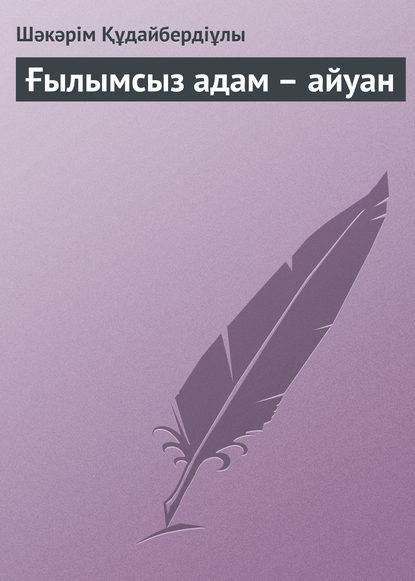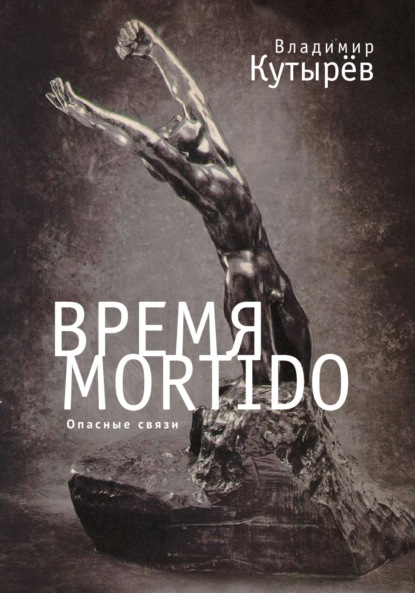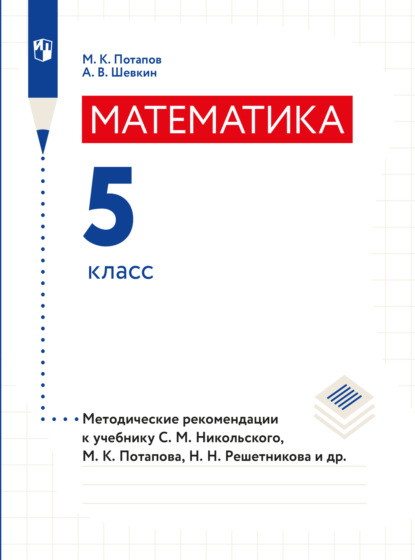- -
- 100%
- +
2. Обеспечивают онтологическое и эпистемологическое обоснование самой справедливости, связывая её с высшим принципом бытия – Идеей Блага.
3. Представляют собой кульминацию диалектического движения мысли Платона от описания структуры справедливости к раскрытию условия её возможности – философского знания.
Таким образом, без этих книг «Государство» оставалось бы незавершенным этюдом о социальной гармонии, лишенным своего главного метафизического измерения и ответа на вопрос о том, как человек и общество могут authentically прийти к этой гармонии.
3: Аргумент от целостности произведения: гений Платона против механического сложения частей
⦁ Содержание: Автор настаивает, что столь превосходное произведение, как «Государство», не могло быть составлено из механически соединенных частей. Все его элементы родились вместе в гении Платона. Если бы принципы, изложенные в этих книгах, были добавлены позже, это разрушило бы внутреннее единство и пропорции диалога, превратив его в уродливое и неубедительное целое, что противоречит собственным принципам Платона о построении произведения как живого существа.
1. Эстетико-философский принцип: произведение как «живое существо» (ζῷον – зоон)
⦁ Сам Платон в своих диалогах (например, в «Федре») формулирует принцип, что всякая речь (λόγος – логос) должна быть составлена как живое существо, у которого есть собственное тело с частями, соответствующими друг другу и целому. Целое должно быть органическим, а не механическим собранием частей.
⦁ Применить к «Государству» гипотезу о «механическом сложении» – значит обвинить Платона в нарушении его собственного фундаментального методологического правила. Сторонник целостности утверждает: гений Платона не мог создать столь уродливый, с точки зрения его же эстетики, текст.
2. Внутренние переклички и архитектоника как доказательство единства замысла
Критики Шлейермахера указывают на тончайшую взаимосвязь всех частей диалога, которую невозможно объяснить позднейшими вставками:
⦁ Подготовка темы идеи Блага: Уже в книге II Главкон требует от Сократа доказать, что справедливость хороша сама по себе, а не только по своим последствиям. Это прямой вызов, который не может быть удовлетворен в рамках простой модели «здоровой души» из IV книги. Ответом на этот вызов и является учение об идее Блага в VI-VII книгах как о высшей ценности, делающей справедливость благом по существу.
⦁ Диалектика простого и сложного государства: Модель «здорового» (первого) города и «разгоряченного» (второго) города в книгах II-III не является окончательной. Она служит педагогической подготовкой, показывая необходимость стражей. Аналогично, модель справедливости из IV книги является необходимой, но недостаточной ступенью для понимания высшей справедливости, основанной на знании. V-VII книги – это закономерный переход на новый уровень сложности, а не смена темы.
⦁ Метафоры света и зрения: Метафора Солнца (идея Блага) в VI книге и пещеры в VII книге напрямую коррелируют с обсуждением знания и мнения, проводимым throughout всего диалога. Например, в книге V проводится строгое разделение между знанием (γνῶσις – гносис) и мнением (δόξа – докса), которое находит свое онтологическое обоснование именно в метафоре Солнца и пещеры.
3. «Гений Платона» против «механики редактора»
⦁ Аргумент от целостности апеллирует к единству авторского замысла высочайшего уровня. Предполагать, что Платон сначала создал урезанную версию диалога о справедливости, а потом «приклеил» к ней свое центральное метафизическое учение, – значит приписывать ему неспособность увидеть структурные недостатки собственного произведения.
⦁ Напротив, сила и убедительность «Государства» как раз в его масштабе и системности. Убрать V-VII книги – значит оставить диалог без ответа на главные вопросы: «Почему справедливость – это благо?» и «Как она возможна в несовершенном мире?». Без философа-правителя и идеи Блага государство Платона остается красивой, но уязвимой для критики схемой. Таким образом, эти книги не «удобряют» произведение, а являются его несущим каркасом.
Аргумент от целостности утверждает, что гипотеза Шлейермахера не просто ошибочна в деталях, но противоречит самой природе платоновского творчества. «Государство» является органическим целым, где:
1. Этическая проблематика (что есть справедливость?) логически требует политического (как ее реализовать?) и метафизического обоснования (почему она блага?).
2. Все элементы текста связаны сетью перекликающихся тем и образов, что свидетельствует о едином и гениальном замысле.
3. Предположение о «склейке» разрушает как эстетическую гармонию, так и философскую глубину диалога, превращая его в то, против чего сам Платон выступал – в безжизненный механический конгломерат частей.
Следовательно, V-VII книги – это не добавление, а кульминация и завершение, без которых «Государство» перестает быть тем монументальным произведением, которое оказало влияние на всю историю западной мысли.
4: Анализ текста Платона: почему обсуждение было отложено
⦁ Содержание: Автор переходит к прямому анализу текста «Государства». Он указывает, что Сократ не случайно отложил обсуждение вопросов о женщинах-стражах и общности жён и детей. Это было сделано сознательно, чтобы не смешивать два разных уровня рассуждения: 1) построение модели справедливого государства как увеличенной модели души и 2) введение более высокого принципа – идеи блага, необходимого для управления идеальным государством. Смешение этих планов затруднило бы понимание.
1. Два уровня рассуждения: тактическое разделение
Вы совершенно правы, что Платон разделяет два плана:
⦁ Уровень 1: Структурно-функциональная аналогия (Книги II-IV).
⦁ Задача: Построить "увеличенную букву" государства, чтобы проще было разглядеть справедливость в душе.
⦁ Метод: Социальная инженерия, основанная на принципе "одно дело – один человек". Справедливость понимается как гармония и выполнение своей функции каждым элементом системы (сословием, частью души).
⦁ Результат: Модель "здорового", но еще не "прекрасного" государства. Это необходимый, но недостаточный этап.
⦁ Уровень 2: Эпистемологическое и онтологическое обоснование (Книги V-VII).
⦁ Задача: Ответить на вопрос "А возможно ли такое государство?" и, что важнее, "Что делает его истинно благим?".
⦁ Метод: Введение фигуры философа-правителя и учения об Идее Блага как источника бытия, истины и ценности.
⦁ Результат: Обоснование, почему предложенная модель – не просто утопия, а "парадигма, существующая на небе", к которой стоит стремиться.
2. Почему смешение планов было бы губительным? (Логика отсрочки)
Введение радикальных тем (общность жен/детей) и метафизических оснований (Идея Блага) на первом уровне разрушило бы ясность аналогии:
⦁ Перегрузка сложностью: Если бы Сократ сразу, в Книге III, заговорил об Идее Блага, это сбило бы с толку Адиманта и Главкона, которые еще только усваивают базовую модель трех сословий. Читатель (и собеседник) должны сначала увидеть контур справедливости, прежде чем понять, что ее наполняет смыслом.
⦁ Подрыв аналогии: Аналогия "государство-душа" на первом уровне работает на основе довольно простых и понятных добродетелей (мужество стражей, умеренность ремесленников). Внезапный переход к диалектике и созерцанию вечных идей сделал бы аналогию непомерно сложной и разорвал бы ее.
⦁ Создание драматического напряжения и потребности: Откладывая самый сложный вопрос, Платон создает у собеседников и читателей интеллектуальную потребность. Они сами чувствуют недостаточность построенной модели и требуют перехода на новый уровень. Фраза Сократа "мы упустили что-то важное вначале" – это не ошибка, а констатация того, что первый круг рассуждений завершен и пора двигаться дальше, вглубь.
3. "Три волны" как структурный мост между уровнями
Обсуждение в начале Книги V организовано в виде "трех волн" критики, которые и служат тем самым механизмом перехода:
⦁ Первая волна (общность жен и детей): Это еще относительно "социальный" уровень, но уже требующий выхода за рамки традиционной семьи. Он подготавливает почву для более радикальных идей.
⦁ Вторая волна (философы-правители): Это ключевой поворот. Здесь Платон прямо заявляет, что структурной модели (Уровень 1) недостаточно. Нужен новый принцип – знание. Это и есть точка перехода от социологии к эпистемологии.
⦁ Третья волна (возможность осуществления): Эта волна напрямую выводит к необходимости Уровня 2. Ответ на вопрос "возможно ли это?" заключается не в практическом плане, а в метафизическом: это возможно как идеал, как парадигма, к которой надо стремиться. Это требует объяснения того, что такое этот идеал, то есть учения об Идеях и Благе.
Отложенное обсуждение – это не недостаток композиции, а блестящий диалектический и педагогический прием.
1. Тактическое разделение позволяет ясно и последовательно построить аналогию между душой и государством, не отвлекаясь на высшую метафизику.
2. Стратегическая отсрочка создает интеллектуальный голод и демонстрирует внутреннюю ограниченность первого уровня рассуждений, показывая необходимость перехода к более глубокому основанию.
3. "Три волны" служат идеальным сюжетным механизмом для этого перехода, постепенно поднимая ставки обсуждения от социальных革新 к эпистемологическому и онтологическому обоснованию всего проекта.
Следовательно, структура "Государства" отражает сам процесс познания: от внешнего и простого – к внутреннему и сложному. Отложив самый главный вопрос, Платон следует собственному методу: вести читателя от мнения к знанию поэтапно, не пропуская ни одной необходимой ступени.
5: Связь обсуждаемых тем (женщины-стражи) с основной целью диалога
⦁ Содержание: В этом ключевом фрагменте автор доказывает, что тема женщин-стражей, поднятая в V книге, не является чужеродной. Она напрямую вытекает из более раннего обсуждения стражей-мужчин и служит той же цели – построению наилучшего государства. Если институт стражей-мужчин считается частью основной линии диалога о справедливости, то и логически связанный с ним институт стражей-женщин не может считаться эпизодом. Оба института подчинены одной цели – благу полиса.
1. Развитие принципа «природного назначения» (φύσει – фюсей)
⦁ В основе всего государства стражей лежит ключевой для Платона принцип: каждый должен делать то, к чему он пригоден по своей природе. Это основа разделения труда и, в конечном счете, справедливости.
⦁ Обоснование необходимости стражей-мужчин (Книга II-III) строится именно на этом: есть люди, чья природа наделена качествами стража (сила, ярость к врагам, любовь к мудрости). Следовательно, им и следует поручить охрану полиса.
⦁ Тема женщин-стражей (Книга V) – это проверка универсальности данного принципа. Платон ставит вопрос: а что, если эта «природа стража» встретится не только в мужском, но и в женском теле? Если мы последовательны, мы должны признать, что пол здесь – второстепенное обстоятельство. Отказать женщине с природой стража в соответствующем воспитании и должности – значит нарушить собственный фундаментальный принцип ради следования предрассудку.
2. Функциональный подход к благу полиса как высший критерий
⦁ Главная цель диалога – обнаружение справедливости и конструирование наилучшего государства, ориентированного на общее благо (τὸ κοινῇ ἀγαθόν – то койне агathon).
⦁ Каждое учреждение в полисе проверяется этим критерием. Стражи-мужчины нужны, потому что это полезно для выживания и гармонии полиса.
⦁ Аргумент в пользу стражей-женщин является чисто утилитарным (функциональным) продолжением этой логики. Платон прямо говорит: использовать способных женщин на благо полиса – это вдвое увеличить эффективность класса стражей. Игнорировать таланты половины населения – это расточительство и ослабление государства. Таким образом, этот институт напрямую служит основной цели – благу целого.
3. Женщины-стражи как тест на последовательность
⦁ Введение этой темы служит демонстрацией внутренней непротиворечивости всей модели. Если бы Платон, дойдя до этого пункта, отступил под давлением традиции, это означало бы, что его идеальное государство не свободно от общественных предрассудков и его принципы не универсальны.
⦁ Более того, это подготавливает почву для еще более радикального разрыва с традицией – отмены частной семьи для стражей. Если мы уже согласились, что пол не является определяющим фактором для социальной роли, то следующий шаг – устранение семьи как института, порождающего частные интересы, противоречащие интересам полиса, – становится логически более приемлемым.
4. Связь с идеей Блага: равенство в свете истины
⦁ Хотя прямое обсуждение Идеи Блага идет позже, тема женщин-стражей уже подготавливает его. Она показывает, что для Платона подлинные ценности (благо полиса, справедливость) лежат вне сферы условных социальных различий (пола).
⦁ Равенство женщин-стражей основано на том, что их души, как и души мужчин, способны приобщиться к истине и благу. Таким образом, этот социальный институт оказывается ранним, еще политическим, выражением той самой метафизической истины, которая будет раскрыта в VI-VII книгах: мир идей (и доступ к нему) бесполос.
Тема женщин-стражей – это не эпизод, а краеугольный камень, проверяющий на прочность все здание «Государства».
1. Она является логическим развитием принципа «природного назначения».
2. Она служит функциональным усилением государства, напрямую работая на его главную цель – общее благо.
3. Она выступает тестом на последовательность, показывая, что проект Платона действительно радикален и свободен от традиционных предрассудков.
4. Она служит мостом между социально-политическими установлениями и будущим метафизическим обоснованием, показывая, что политика должна руководствоваться не мнением, а знанием, нейтральным к телесным различиям.
Следовательно, исключение этой темы сделало бы проект Платона внутренне противоречивым и менее обоснованным. Она является неотъемлемой частью единой линии рассуждения о справедливости.
6: Итоговый вывод: два фундаментальных принципа построения идеального государства
⦁ Содержание: Автор формулирует окончательный вывод. Платон разделил рассуждение на две части потому, что видел два фундаментальных, но различных принципа идеального государства:
1. Принцип справедливости: Достаточен для первоначального построения модели государства по аналогии с душой (книги II-IV).
2. Принцип идеи блага: Необходим для завершения всего сооружения, для обоснования высшего знания правителей-философов и таких институтов, как общность жён и детей, которые обеспечивают воспроизводство этого высшего класса (книги V-VII).
Таким образом, V-VII книги – не эпизод, а необходимая и органичная часть единого философского замысла.
1. Принцип справедливости: Структурно-функциональный фундамент (Книги II-IV)
⦁ Роль: Этот принцип отвечает на вопрос «как устроено справедливое государство?». Он является формальным и структурным. По аналогии со строительством, это – создание безупречного чертежа, где каждый элемент (сословие) занимает строго отведенное ему место и выполняет свою функцию.
⦁ Содержание: Справедливость понимается здесь как здоровье государства и души, достигаемое гармонией и исполнением своего назначения (τά ξαυτοῦ πράττειν – «делать своё дело»).
⦁ Ограничение: Однако этот принцип сам по себе не дает ответа на ключевые вопросы:
⦁ Почему именно эта структура является благом?
⦁ Кто и каким знанием будет поддерживать эту хрупкую гармонию?
⦁ Как обеспечить воспроизводство класса правителей, чтобы государство не выродилось?
2. Принцип Идеи Блага: Онтологическое и эпистемологическое завершение (Книги V-VII)
⦁ Роль: Этот принцип отвечает на вопросы «почему это государство – благо?» и «как оно может стать реальностью?». Это – переход от чертежа к одушевленному, вечному существу. Если первый принцип описывает статичную структуру, то второй вводит динамику и цель.
⦁ Содержание: Идея Блага является:
⦁ Источником бытия и познания (метафора Солнца), дающим онтологическое обоснование всему сущему.
⦁ Целью (τέλος – телос), к которой стремится как философ, так и всё государство.
⦁ Высшим знанием, позволяющим философу-правителю не просто поддерживать порядок, но и направлять полис к подлинному благу.
⦁ Следствие: Именно этот высший принцип делает необходимыми такие институты, как общность жён и детей и равенство женщин-стражей. Они являются не произвольными добавлениями, а технологическими следствиями главной цели: создать условия для беспрепятственного воспроизводства знания и добродетели в классе правителей, максимально устранив частные интересы, разрушающие единство.
3. Диалектический синтез: от модели к парадигме
Таким образом, два принципа образуют неразрывное единство:
⦁ Принцип справедливости создает модель, понятную для логического анализа.
⦁ Принцип Идеи Блага превращает эту модель в парадигму (образец в душе), обладающую ценностным и практическим авторитетом.
Без первого принципа учение об Идее Блага оставалось бы отвлеченной метафизикой, не имеющей применения к человеческой жизни. Без второго принципа модель справедливости повисала бы в воздухе как умозрительная и уязвимая для обвинений в нереализуемости конструкция.
Окончательная формулировка вывода
Следовательно, деление рассуждения на две части отражает глубинную логику самого философского исследования, движущегося от внешнего описания к внутреннему обоснованию.
V-VII книги – это не эпизод, а кульминация единого замысла. Они являются органичной и необходимой частью «Государства», поскольку:
1. Переводят проект из плана структурной аналогии в план онтологического обоснования.
2. Наделяют модель смыслом и целью, отвечая на вопрос, ради чего существует справедливое государство.
3. Вводят динамический элемент – фигуру философа-правителя и институты, обеспечивающие долговременную устойчивость идеала.
Только вместе эти два принципа – формальный порядок Справедливости и целеполагающая сила Блага – образуют целостную и убедительную философскую систему, объясняющую не только, что есть справедливость, но и почему она есть высшее благо для человека и общества.
Раздел II. Представление обсуждаемого отрывка и основной проблемы
«…Все жёны этих мужей должны быть общими, а отдельно ни одна ни с кем не должна сожительствовать. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой его ребенок, а ребенок – кто его отец» (Платон. Государство, V, 457c-d).
Этот радикальный закон, провозглашаемый Сократом для сословия стражей идеального полиса, становится одним из самых шокирующих и вызывающих споры положений во всей политической философии Платона. Проблема, которую сразу же обозначают многие исследователи, заключается в кажущейся несогласованности между V книгой и остальными частями диалога. Каким образом предложения об отмене частной собственности, семьи и введении «общности жён и детей» соотносятся с основной темой «Государства» – определением справедливости? Не является ли V книга, с её утопическими проектами и смелым уравниванием женщин, своего рода отклонением от систематического замысла?
Однако, как убедительно показывают многие интерпретаторы, эта кажущаяся несогласованность скрывает за собой глубокий систематический замысел. V книга не случайна; она логически вытекает из принципов, заложенных ранее, и служит ключом к пониманию платоновской концепции справедливости. Вместо того чтобы видеть в ней аномалию, современная наука предлагает рассматривать её как кульминацию аргумента о том, что справедливость требует полного подчинения частного интереса – интересу общему.
Альтернативные дополнения к прочтению V книги, основанные на библиографических источниках:
1. Этико-политическое прочтение: «Справедливость как единство». С точки зрения этого подхода, развиваемого, в частности, в работах А.Ф. Лосева и В.С. Нерсесянца, общность жён и детей – это не биологический эксперимент, а радикальное средство для уничтожения главного источника несправедливости в полисе: конфликта между «своим» и «общим». Как пишет Лосев, Платон стремится к тому, чтобы стражи, являющиеся разумной частью государства, были максимально сплочены, подобно единому организму. Уничтожение семьи и собственности у стражей – это прямое продолжение тезиса о том, что в справедливом государстве «страдает ли кто-нибудь из его граждан или благоденствует, с этим должно страдать и государство и так же благоденствовать» (V, 462b). Таким образом, проект V книги – это доведённая до логического предела модель политического единства.
2. Феминистская и гендерная критика. Зарубежные исследователи, такие как Натали Блойер (Natalie Bloyer) и Синтия Фаррар (Cynthia Farrar), акцентируют внимание на другом новаторском аспекте V книги – предложении о предоставлении женщинам-стражам одинакового с мужчинами образования и социальных функций. Проблема здесь видится не столько в «общности», сколько в том, является ли аргумент Платона genuinely эгалитарным. С одной стороны, Платон действительно ломает традиционные афинские гендерные стереотипы, утверждая, что природные способности распределены одинаково между полами. С другой, как отмечает Арлин Саксонхаус (Arlene Saxonhouse), освобождение женщины у Платона происходит ценой уничтожения частной сферы и семьи как таковой, то есть через её полное поглощение публичной, мужской по своей сути, жизнью полиса. Это не столько освобождение женственности, сколько «обезличивание» стража для нужд государства.
3. Биополитическая интерпретация. Ряд современных философов (например, Мишель Фуко в курсе лекций «Нужно защищать общество») видят в V книге один из первых проектов «биополитики» – управления населением на уровне его жизни, здоровья и репродукции. С этой точки зрения, общность жён и детей – это механизм селекции и улучшения «породы» стражей. Браки регулируются не чувством, а лотереей, подстроенной для рождения наилучшего потомства; дети, имеющие дефекты, подлежат устранению. Здесь систематический замысел Платона предстаёт как стремление подчинить природную стихию рождения и смерти строгому контролю разума (философов-правителей) ради сохранения стабильности и качества правящего класса.
Альтернативные прочтения V книги показывают, что её «проблематичность» является её главной силой. Она служит испытанием для понимания платоновской справедливости, раскрывая её как этический идеал единства (отечественная традиция), как сложный вопрос о гендере и публичной сфере (феминистская критика) или как ранний пример политики, направленной на управление жизнью населения (биополитический подход). Кажущийся разрыв между V книгой и остальным диалогом скрывает её центральную роль в демонстрации того, что подлинная справедливость требует тотальной трансформации всех традиционных человеческих привязанностей.
Стратегия Сократа: уклонение и «праздное мечтание»
Реакция Сократа на сомнения собеседников относительно осуществимости (τὸ δυνατόν) проекта из V книги является ключевым моментом, раскрывающим его метод. Столкнувшись с прямым вопросом Адиманта о возможности такого государства, Сократ не даёт прямого ответа. Вместо этого он признается: «Я бы предпочёл обойти этот вопрос… и, приняв его осуществимость, рассмотреть, как именно правители устроят государство, и доказать, что при таком устройстве оно будет в высшей степени полезно (ὠφέλιμον) и государству, и его стражам» (Государство, V, 458a-b).
Это уклонение он метафорически описывает как поведение «праздного мечтателя» (ἀπράγμων), который, позволив себе предположить, что его желание сбылось, с упоением начинает расписывать детали, «откладывая в сторону вопрос о возможности» (V, 458a). На первый взгляд, это может показаться уловкой, попыткой избежать неудобного возражения. Однако, как справедливо отмечает автор, за этим стоит не слабость аргументации, а глубоко продуманный литературный и философский приём, который выполняет несколько важных функций.
Альтернативные дополнения к анализу стратегии Сократа:
1. Разделение вопросов о сущности и осуществлении. Российский исследователь В.С. Нерсесянц в работе «Платон» подчёркивает, что Сократ проводит чёткое методологическое разграничение. Вопрос «полезно ли это?» (ὠφέλιμον) относится к сущности справедливости и идеальной модели государства – это вопрос философского знания. Вопрос «возможно ли это?» (δυνατόν) относится к сфере практической политики и исторической случайности. Смешивать их – значит мерить идеальный логос несовершенной мерой эмпирической реальности. Таким образом, уклонение Сократа – это не бегство от проблемы, а охрана чистоты философского inquiry от преждевременного приложения к практике.
2. «Эпистемологическое» прочтение: идеал как парадигма. Зарубежные интерпретаторы, такие как Дж. Феррари (G.R.F. Ferrari), видят в этом приёме указание на особый статус платоновского идеала. Государство, описанное в V книге, – это не программа политических реформ, а «парадигма», существующая на небесах (ἐν οὐρανῷ παράδειγμα, IX, 592b), которую следует использовать как образец для оценки существующих порядков, а не для их прямого преобразования. Отказ Сократа спорить о возможности – это напоминание о том, что истинная цель диалога – не построить утопию на бумаге, но построить её в душе каждого слушателя (см. IX, 592a). Его «мечтательность» – это способ удержать дискуссию на уровне внутреннего, нравственного преобразования личности.