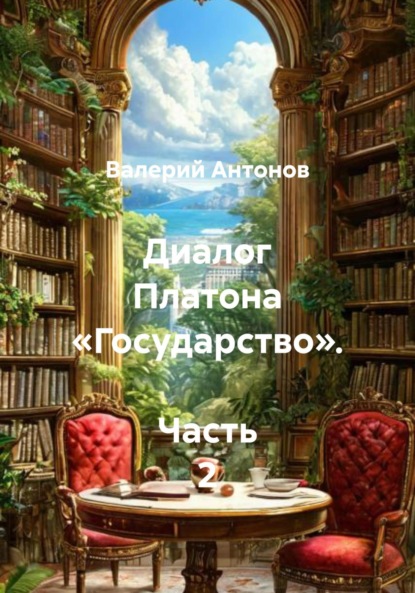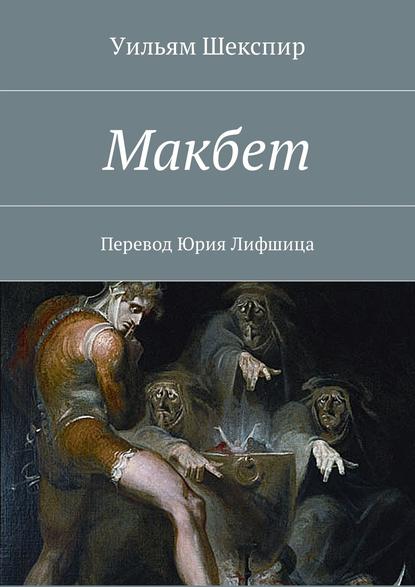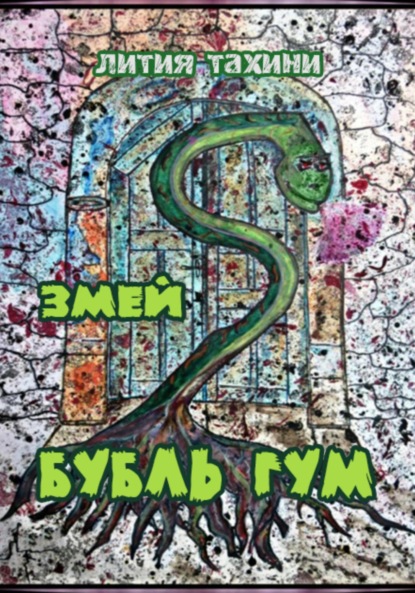- -
- 100%
- +
3. Ироническая маска и педагогика. Другой подход, развиваемый М.Ф. Бёрнетом (M.F. Burnyeat), рассматривает эту сцену как проявление сократической иронии. Притворная нерешительность и самоуничижительный тон («праздный мечтатель») – это педагогический ход. Сократ провоцирует собеседников, заставляя их самих захотеть исследовать осуществимость идеала, тем самым вовлекая их в более глубокое понимание его условий. Он как бы говорит: «Вы сомневаетесь, что это возможно? Что ж, давайте тогда вместе выясним, что должно произойти, чтобы это стало возможным». Это логически подводит к центральному тезису всей книги: «Пока в городах не будут царствовать философы… государство не избавится от зол» (V, 473d). Таким образом, «мечта» о общности жён и детей оказывается напрямую зависимой от ещё более «утопической» мечты о власти философов.
Стратегия уклонения и «праздного мечтания» Сократа предстаёт не как слабость, а как многослойный риторический и философский инструмент. Она служит:
⦁ Методологическому очищению вопроса о справедливости от вопросов о практической реализации.
⦁ Указанию на онтологический статус идеала как парадигмы, а не чертежа.
⦁ Педагогическому приёму, который ведёт собеседников (и читателей) к осознанию фундаментального условия возможности справедливого государства – необходимости соединения политической власти и философии. Эта кажущаяся уловка оказывается сердцевиной платоновского замысла.
Искусство диалога: скрытая систематичность под малой непринужденности
Главный тезис заключается в том, что кажущаяся произвольность и спонтанность диалога – особенно ярко выраженная в V книге с её «уклонениями» и «мечтаниями»** – это не хаотичность или недостаток композиции, а высшее проявление литературного и философского искусства Платона. Он намеренно имитирует лёгкость и непредсказуемость живой беседы, чтобы замаскировать под ней строгий систематический план. Эта стратегия позволяет ключевым идеям – таким как общность жён и детей или необходимость власти философов – возникать не как догматические декларации учителя, а как бы естественно, «по собственной инициативе» слушателей, рождёнными в процессе совместного поиска (κοινὴ σκέψις).
Альтернативные дополнения к анализу скрытой систематичности:
1. Диалектика как драматургия. Российский платоновед А.Ф. Лосев в своих комментариях к «Государству» неоднократно подчёркивает, что форма диалога у Платона является содержательной. Кажущийся беспорядок – это драматургическое воплощение диалектического метода. Вопросы о пользе (ὠφέλιμον), устройстве и возможности (δυνατόν) следуют не в произвольном порядке, а в строгой логической иерархии, соответствующей движению мысли от сущности к явлению.
⦁ Сначала устанавливается сущность справедливости и её польза для полиса.
⦁ Затем выводится её конкретное устройство (структура).
⦁ И лишь в последнюю очередь ставится вопрос о её осуществимости в мире становления.
Таким образом, «непринуждённое» откладывание вопроса о возможности – это на самом деле демонстрация приоритета идеального над материальным, логической необходимости над эмпирической случайностью.
2. Психология вовлечения: «сократическая ирония» как педагогика. Зарубежный исследователь Джеймс Р. Аристотель (James R. Aristotle) в работе «The Art of Platonic Dialogue» указывает, что Платон использует технику, которую можно назвать «управляемой спонтанностью». Сократ, прикидываясь неуверенным и предлагая «просто помечтать», на самом деле мягко направляет беседу. Когда Адимант и Главкон сами, по собственной воле, подхватывают его «мечту» и требуют подробностей, они психологически присваивают эту идею. Она становится не навязанной извне, а их собственной. Это превращает читателя из пассивного слушателя в соучастника открытия, делая философский вывод гораздо более убедительным.
3. Имитация живого ума. Французский философ Пьер Адо (Pierre Hadot) в своей концепции «философии как образа жизни» видит в диалогической форме Платона попытку воспроизвести сам процесс мышления. Живая мысль не линейна; она делает «шаги в сторону», возвращается, исправляет себя. Хаотичность диалога – это искусственная конструкция, имитирующая работу ума, находящего истину. Систематичность же скрыта в самой этой «хаотичности» как её внутренняя логика. Отложив вопрос о возможности, Платон заставляет читателя сосредоточиться на чистоте идеи, а не на компромиссах с реальностью, что является фундаментальным требованием его философии.
«Лёгкость» и «непринуждённость» V книги – это тщательно сконструированная иллюзия. Она служит трём главным целям платоновского проекта:
⦁ Логической: провести читателя по пути диалектики от сущности к явлению.
⦁ Психологической: вовлечь его в процесс открытия истины, сделав его соавтором.
⦁ Философской: отделить мир идеальных сущностей (мира идей) от мира практической осуществимости (мира вещей).
Кажущийся беспорядок оказывается высшим проявлением порядка – не порядка трактата, а порядка живой, seeking мысли. Именно эта стратегия позволяет Платону представить радикальные идеи V книги не как абстрактную доктрину, а как неизбежный и желанный вывод, к которому самостоятельно приходят его собеседники и, что важнее, внимательный читатель.
Связь частей: «благородная ложь» как основа общности жен и детей
Действительно, один из наиболее убедительных аргументов в пользу глубокой систематичности «Государства» заключается в том, как Платон заранее подготавливает концептуальную почву для своих самых спорных предложений. Ярчайший пример – логическая связь между теорией «благородной лжи» (γενναῖον ψεῦδος), изложенной в III книге, и институтом общности жён и детей в V книге.
Оправдание «лжи во спасение» как своего рода лекарства (φάρμακον), которое правители могут использовать для пользы государства, не является случайным отступлением. Напротив, оно служит прямым метафизическим и этическим основанием для радикального переустройства частной жизни стражей. Когда в V книге Сократ описывает механизм брачных празднеств и лотерей, управляемых правителями для евгенических целей, но представляемых гражданам как жребий, он применяет на практике тот самый принцип, который был установлен теоретически ранее. Таким образом, отдельные части диалога оказываются тесно взаимосвязаны: более ранние рассуждения не просто подкрепляют, но логически обусловливают более поздние.
Альтернативные дополнения к анализу связи «благородной лжи» и общности:
1. От мифа к институту: создание искусственного родства. Отечественный исследователь С.А. Анисимов в работе «Политическая философия Платона» акцентирует внимание на том, что «благородная ложь» о автохтонности и общем родстве всех граждан (миф о Земле-матери) создаёт в III книге идеологический фундамент. А в V книге на этом фундаменте возводится конкретный социальный институт. Уничтожение индивидуальной семьи и введение контролируемого деторождения – это практическая реализация идеи о том, что весь полис является единой семьёй. Ложь о жребии на брачных празднествах – это частное применение общего принципа «лечебной» лжи, необходимой для поддержания единства этого искусственного, но оттого не менее прочного, родства.
2. Гносеологическое оправдание: ложь во имя истины. Зарубежный платоновед М.Ф. Бёрнет (Myles Burnyeat) в своей известной статье «Sphinx without a Secret» интерпретирует «благородную ложь» как инструмент, который позволяет необразованным стражам действовать так, как если бы они понимали истинную природу блага. Эта логика получает своё предельное развитие в V книге. Поскольку стражи по определению лишены знания (им обладают только философы-правители), их сексуальная и репродуктивная жизнь должна быть управляема извне – теми, кто видит истину. Таким образом, обман в вопросах брака – это не циничная манипуляция, а следствие гносеологической иерархии: те, кто пребывает во лжи мнения, нуждаются в руководстве тех, кто обладает истинным знанием.
3. Биополитическое прочтение: ложь как технология власти. С точки зрения современных политических философов, например, Жака Рансьера (Jacques Rancière), связь между «благородной ложью» и общностью жён и детей демонстрирует тоталитарный импульс платоновского проекта. «Лекарственная» ложь III книги раскрывается как основание для тотального контроля над жизнью (биовласти) в V книге. Право правителей лгать – это первичный акт суверенитета, который находит своё закономерное продолжение в праве регулировать самые интимные аспекты существования подданных. Здесь систематичность произведения проявляется в последовательном развёртывании логики власти, которая для поддержания целостности полиса должна подчинить себе не только действия, но и тела, и саму природу человеческих привязанностей.
Таким образом, связь между «благородной ложью» и общностью жён и детей служит мощным доказательством того, что V книга – не случайная вставка, а органическая часть единого замысла. Эта связь работает на нескольких уровнях:
⦁ Практическом: общая ложь мифа реализуется в частной лжи брачной лотереи.
⦁ Гносеологическом: право на обман вытекает из монополии философов на знание.
⦁ Политическом: принцип «лечебного» обмана оправдывает тотальный контроль над воспроизводством граждан.
Эта перекличка между удалёнными частями диалога показывает, что Платон выстраивает свою модель государства с железной логикой, где каждый последующий радикальный шаг подготовлен и предвосхищен предыдущими, более умеренными уступками, которые, однако, содержали в себе его семена.
Единство проекта: общность имущества, жен и детей как целое
Предложение об общности жён и детей является не изолированным и шокирующим нововведением, а логическим и необходимым завершением принципа, установленного ранее для стражей – общности имущества. Платон выстраивает стройную систему, в которой все элементы взаимосвязаны и служат одной цели: полному устранению частного интереса, чтобы стражи стали «единым телом» полиса.
«Но если они будут иметь у себя частную собственность – дома, земли, деньги, – то из стражей они станут хозяевами и земледельцами; из союзников сограждан превратятся во враждебных им подданных; они будут всю жизнь злоумышлять друг против друга и против остальных граждан… и погубят и самих себя, и все государство» (Государство, III, 417a-b).
Именно из этой фундаментальной установки – что частная собственность губительна для стража – с необходимостью вытекает и общность семьи. Частная семья с её узкими, эгоистичными привязанностями является, по Платону, самой мощной формой «частной собственности» – собственности на людей и отношения. Таким образом, все эти институты представляют собой не разрозненные нововведения, а члены одного политического тела, подчинённые единому замыслу.
Альтернативные дополнения к анализу единства проекта:
1. Онтологическое обоснование: подражание единому. Российский исследователь Т.В. Васильева в работе «Путь к Платону» подчёркивает, что проект Платона основан на метафизическом принципе единства. Единое (Благо) является высшей реальностью, а множественность и раздор – свойством мира становления. Идеальный полис должен максимально возможно подражать единому и неделимому. Поэтому последовательное устранение всего частного – сначала имущества, затем семьи – это политическое воплощение онтологического стремления к единству. Стражи, лишённые и собственности, и индивидуальных семей, становятся наиболее «единым» сословием, живым воплощением связности полиса.
2. Социопсихологический подход: ликвидация источника «stasis». Зарубежный историк античной политической мысли М.И. Финли (M.I. Finley) видит в этом проекте прямую реакцию Платона на главную болезнь греческого полиса – гражданскую рознь (stasis). Частная собственность и семейные кланы были основными источниками конфликтов и партикуляризма. Платон предлагает радикальную «хирургическую операцию»: удалить эти органы из тела стражей, чтобы сделать их иммунными к stasis. Общность жён и детей – это окончательное разрушение клановой солидарности, которая всегда противостоит солидарности общегосударственной. Это не два разных закона, а два этапа одной операции по созданию нового типа гражданина.
3. Этико-педагогическое прочтение: перековка человеческой природы. С точки зрения философа Лео Штрауса, платоновский проект – это попытка фундаментально изменить человеческую природу. Общность имущества ограничивает материальный интерес, но оставляет нетронутой сферу самых сильных человеческих страстей – любви, ревности, привязанности к детям. Общность жён и детей направлена именно на эту сферу. Её цель – перенаправить эти мощные силы от частных объектов на полис в целом. Любовь к «своим» детям должна превратиться в любовь ко всем детям государства, ревность – уступить место товарищеской солидарности. Таким образом, это единый процесс «перековки» человека, где каждый этап подготавливает следующий, более глубокий.
Три ключевых института стражей – отсутствие частной собственности, общность жён и детей – представляют собой не набор разрозненных мер, а единую, трехуровневую систему уничтожения частного:
⦁ Экономический уровень (имущество): устранение материальной основы раскола.
⦁ Социальный уровень (семья): устранение первичной ячейки частной жизни.
⦁ Психологический уровень (дети): устранение самой глубокой личной привязанности.
Только в своей совокупности они создают условия для появления нового типа личности – стража, для которого понятие «своё» тождественно понятию «общее». Это демонстрирует высшую степень систематичности платоновского замысла, где каждый элемент находит своё логичное и необходимое место в общей архитектонике справедливого государства.
Мастерское отступление: война вместо прямого ответа о возможности
Когда после обсуждения пользы и устройства логично ожидать вопроса о возможности осуществления, Сократ не дает прямого ответа. Вместо этого, уловив ожидание слушателей, он ловко переключается на тему войны, подробно описывая, как стражи будут воевать вместе с женами и детьми. Это представлено как еще один пример того, как Платон управляет вниманием читателя, откладывая сложные темы и вплетая необходимые объяснения в подходящий момент.
Кульминацией стратегии уклонения в V книге становится момент, когда после детального описания пользы (ὠφέλιμον) и устройства общности жён и детей, логика дискуссии требует наконец обратиться к вопросу о возможности (δυνατόν). Однако вместо того чтобы дать прямой и, вероятно, неутешительный ответ, Сократ совершает виртуозное отступление.
Уловив напряжённое ожидание слушателей, он ловко переключается на смежную, но новую тему: «А как они будут воевать, если возникнет необходимость, – об этом, раз уж они женщины, тоже, думаю, небезынтересно послушать» (Государство, V, 466d). Это отступление, подробно описывающее, как стражи будут сражаться вместе с жёнами и детьми, выполняет несколько важных функций, демонстрируя, как Платон управляет вниманием читателя, откладывая сложные темы и вплетая необходимые объяснения в подходящий момент.
Альтернативные дополнения к анализу «отступления о войне»:
1. Косвенное доказательство возможности через полезность. Отечественный исследователь И.А. Протопопова в работе «Платон: искусство диалектики» указывает, что это отступление – не просто уход от темы, а её развитие в ином ключе. Описывая военные преимущества общности (например, что воины, считающие всех детей своими, будут сражаться с удвоенной яростью), Сократ фактически косвенно аргументирует в пользу осуществимости. Логика такова: институт, столь полезный для выживания полиса, должен быть реализован, иначе государство погибнет. Таким образом, вопрос «возможно ли это?» подменяется более прагматичным: «необходимо ли это для выживания?», и ответ на него оказывается положительным.
2. Психологическая разрядка и драматизация. Зарубежный платоновед Д. Аллен (Danielle S. Allen) в книге «Why Plato Wrote» обращает внимание на драматургический аспект. Длинное и сложное обсуждение метафизических основ общности могло вызвать у слушателей (и читателей) интеллектуальную усталость. Яркое, динамичное и патриотическое описание военных сцен служит психологической разрядкой. Оно переводит абстрактную теорию в плоскость конкретных, героических образов, делая проект более живым и привлекательным. Это удерживает интерес аудитории в момент, когда чисто философская аргументация могла бы иссякнуть.
3. Стратегия «встроенного обоснования». С точки зрения философа М. Лейна (Melissa Lane), это отступление является примером платоновского метода «вплетения» (ὑφαίνειν) аргументов. Тема войны – это не произвольная смена темы, а контекст, в котором преимущества общности семьи проявляются с новой, сугубо практической силой. Платон показывает, что предлагаемые им институты работают не только в мирное время, но и в экстремальных условиях, что лишь подтверждает их универсальную полезность и, следовательно, их ценность. Это позволяет отложить прямой ответ на вопрос о возможности, но при этом укрепить позиции проекта, демонстрируя его жизнеспособность в ключевой для полиса сфере – обороне.
Таким образом, «Мастерское отступление о войне» предстаёт не слабостью композиции, а её сильнейшей стороной. Оно позволяет Платону:
⦁ Аргументировать косвенно: подкрепить осуществимость демонстрацией крайней необходимости.
⦁ Управлять эмоциями: перевести дискуссию в героический регистр, поддерживая интерес и энтузиазм.
⦁ Интегрировать идеи: показать, как новый институт работает в системной связи с другими функциями государства (обороной).
Этот манёвр окончательно убеждает в том, что кажущаяся непоследовательность диалога является тонким инструментом педагогики и риторики, направленным на то, чтобы подвести читателя к принятию сложнейших идей через их постепенное и многоаспектное раскрытие.
Общий вывод: скрытый план как ключ к пониманию «Государства»
В заключении, истинная цель всего произведения – описание идеального государства (Πολιτεία), а исследование справедливости служит лишь средством для этой цели. Частые отсылки Сократа к поиску справедливости – это лишь видимость, призванная скрыть главный замысел. Скрытый систематический план, искусно замаскированный под свободную беседу, и есть высшая хитрость Платона-художника и философа.
Проведённый анализ V книги «Государства» позволяет сделать фундаментальный вывод о структуре всего диалога в целом. Кажущаяся хаотичность беседы, её отступления, уклонения и «праздные мечтания» являются не недостатком, а гениальным литературно-философским приёмом. Истинная цель произведения – не просто исследовать понятие справедливости, а развернуть целостный проект идеального государства (Πολιτεία), где исследование справедливости служит отправной точкой и фундаментом. Частые отсылки Сократа к поиску справедливости – это не просто «видимость», а необходимый диалектический путь, который, однако, подчинён более масштабному замыслу.
Этот скрытый систематический план, искусно замаскированный под свободную беседу, и есть высшая хитрость Платона-художника и философа. Он проявляется на нескольких уровнях:
1. Логическая взаимосвязь институтов. Радикальные предложения V книги об общности жён и детей не являются изолированными. Они с железной необходимостью вытекают из более ранних, казалось бы, скромных принципов: отмены частной собственности у стражей и оправдания «благородной лжи». Каждый предыдущий шаг подготавливает почву для следующего, создавая единую, неразрывную систему.
2. Стратегическое управление дискуссией. Уклонение от вопроса о возможности (δυνατόν), мастерское переключение на тему войны и другие риторические манёвры – это не уход от сложностей, а способ удержать фокус на сущностных вопросах (пользе и устройстве), защищая идеал от преждевременной критики с позиций эмпирической реальности. Это позволяет идеям возникать «естественно», как бы по инициативе самих собеседников.
3. Педагогическая эффективность. Маскируя строгий систематический план под непринуждённый диалог, Платон вовлекает читателя в совместный поиск истины. Он заставляет не просто усвоить готовые выводы, а пройти путь их открытия, что делает философские положения гораздо более убедительными и глубоко усвоенными.
Таким образом, «Государство» предстаёт не как трактат о справедливости, к которому добавлены утопические проекты, а как целостное архитектурное сооружение, где все части – от «благородной лжи» до власти философов – подчинены единому замыслу: изображению полиса, максимально приближенного к идеалу единства и блага. Понимание этой скрытой систематичности, тщательно спрятанной под малой непринуждённостью беседы, и является ключом к подлинному прочтению великого произведения Платона.
Раздел III. Кормчий и мятежные матросы
1: Требование Главкона и колебание Сократа
Вызов Главкона: от теории к практике
После того как Сократ завершает описание структуры идеального государства, Главкон прерывает его, выдвигая ключевое требование: необходимо перейти от абстрактной теории к практической реализации. Он настаивает, чтобы Сократ объяснил не просто желательность, но и возможность такого государства, указав, «каким образом» (τίνὰ τρόπον) оно может возникнуть.
Этот вызов поворачивает диалог в новое, опасное с точки зрения Сократа, русло. В ответ Сократ уподобляет просьбу Главкона «нападению» и называет предстоящий вопрос «величайшим и труднейшим волнением» (κύματι). Его колебание и страх проистекают из осознания, что для ответа придётся высказать «три волнующих положения» (τρία… κύματα) – три радикальных и парадоксальных тезиса, которые вызовут всеобщее недоверие и насмешки.
Альтернативные дополнения (в границах анализа V книги)
Дополнение 1 (С акцентом на философский метод):
Требование Главкона знаменует собой момент проверки гипотезы на прочность. Как отмечает отечественный исследователь Ф. Х. Кессиди в работе «Философия Платона», переход от «логически возможного» к «фактически осуществимому» является центральной апорией всего платоновского проекта. Сократ колеблется не потому, что не видит пути, а потому, что этот путь требует введения принципов, ломающих традиционные представления о природе человека и общества. Его страх – это страх философа, осознающего разрыв между идеалом и консервативной общественной моралью.
Дополнение 2 (С акцентом на драматургию диалога):
С точки зрения драматургии диалога, эта сцена создает мощное напряжение. Английский платоновед Дж. Эннas в «Введении в «Государство» Платона» обращает внимание на то, что Главкон здесь выступает не как пассивный слушатель, а как активный двигатель дискуссии, исполняя роль, схожую с ролью других собеседников, подталкивающих Сократа к рискованным выводам (например, Фрасимах в I книге). Метафора «волны» подготавливает аудиторию к тому, что следующие тезисы будут не просто сложны, но и духовно потрясающи.
Дополнение 3 (С акцентом на политический контекст):
Колебание Сократа можно интерпретировать и как отражение исторического травматического опыта. Российский антиковед А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» указывает, что Платон, через фигуру Сократа, хорошо осознавал судьбу других утопических проектов и радикальных реформаторов (например, неудачная попытка реализации идеалов в Сиракузах). Поэтому страх перед провозглашением «парадоксальной мысли» – это еще и страх практика, предвидящего колоссальное сопротивление, с которым столкнется любая попытка воплотить идеал в реальности.
2: Методологическое отступление о цели модели
Справедливость как идеал, а не практическая цель
Прежде чем ответить на вызов Главкона, Сократ делает важное методологическое отступление, проясняя саму природу их исследования. Он напоминает, что первоначальной целью был поиск определения справедливости как таковой. Идеальное государство и идеальный человек были построены как «парадигма» (παράδειγμα) – не план для реализации, а мысленная модель, эталон для сравнения с существующими реалиями.
Сократ проводит аналогию с художником: требовать доказательств возможности существования идеального государства так же абсурдно, как требовать от живописца доказательств, что идеально прекрасный человек с его картины может существовать в действительности. Таким образом, цель модели – не стать практической программой, а служить «образцом, положенным на небесах» для ориентирования в мире земной, несовершенной политики.
Альтернативные дополнения (в границах анализа V книги)
Дополнение 1 (С акцентом на эпистемологию):
Это отступление является ключевым для понимания платоновской эпистемологии. Как подчеркивает российский исследователь В.В. Соколов в работе «Философия как история философии», Платон через Сократа проводит четкую границу между знанием (ἐπιστήμη), имеющим своим предметом идеальные сущности (как парадигма государства), и мнением (δόξα), которое относится к изменчивому миру практической реализации. Таким образом, Сократ не уклоняется от вопроса Главкона, а сначала устанавливает «правила игры», перенося разговор из сферы мнения в сферу знания.