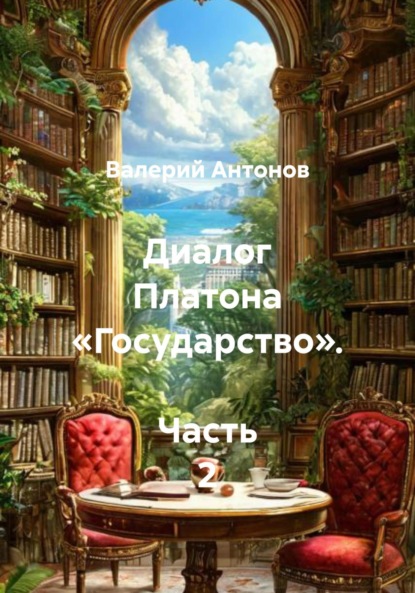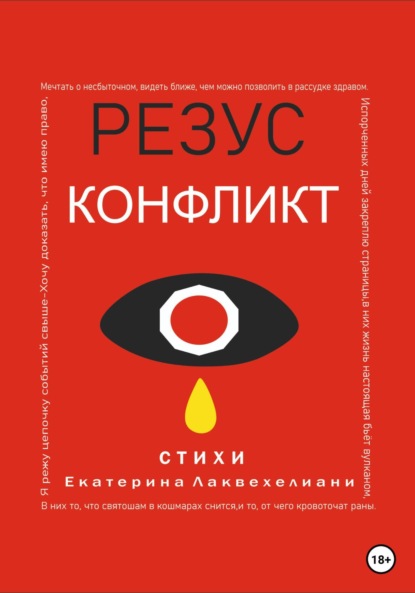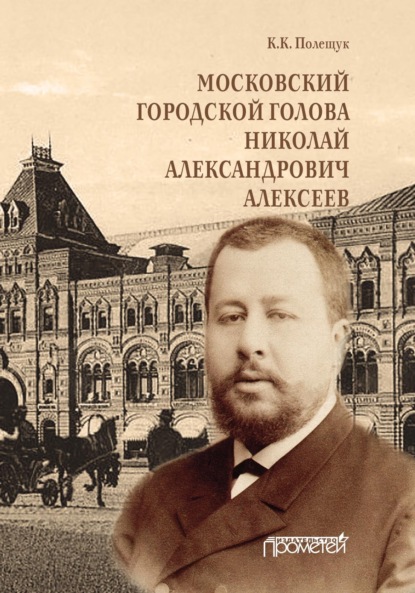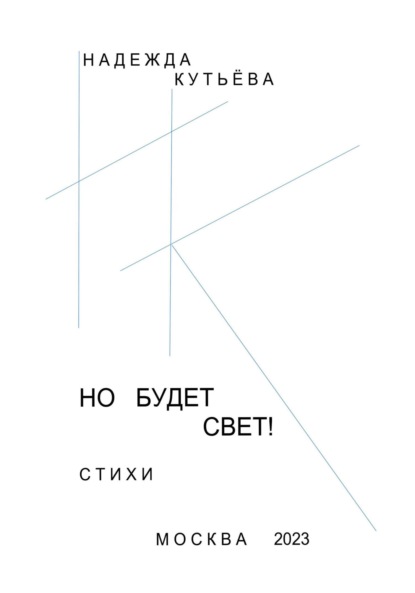- -
- 100%
- +
Дополнение 2 (С акцентом на политическую философию):
Данный методологический ход позволяет интерпретировать проект Платона не как утопию в строгом смысле, а как «реалистическую утопию» или критический стандарт. Американский философ Лео Штраус в «Городе и человеке» отмечает, что, отказываясь изначально от требования практицизма, Платон не обесценивает свою модель, а, наоборот, повышает ее статус. Она становится вечным критерием для суждения о любом реальном режиме, который по определению несовершенен. Ее функция – не быть воплощенной, но быть целью стремления.
Дополнение 3 (С акцентом на связь с «тремя волнами»):
Это отступление служит риторической подготовкой к последующему шоку. Британский платоновед М.Ф. Бернет в своих комментариях указывает, что, напоминая о теоретическом характере парадигмы, Сократ заранее снимает с себя бремя буквального доказательства осуществимости всех деталей. Это дает ему методологическое право выдвигать «три волнующих положения» (общие жены, отмена семьи, философы у власти) не как практические меры, а как логически необходимые элементы самой парадигмы справедливости, какими бы радикальными они ни казались.
Условие согласия и формулировка главного тезиса
«Величайший парадокс»: условие возможности идеального государства
Уступая настойчивости Главкона, Сократ переходит к формулировке главного тезиса, который сам характеризует как источник будущих насмешек и недоверия. Он провозглашает, что ключом к прекращению зол в государстве и для человеческого рода в целом является «величайший парадокс» (τῷ μεγίστῳ κύματι) – первому и самому большому из «трех волнений».
Это условие заключается в том, что политическая власть (δύναμις πολιτική) и философия должны совпасть в одном лице: либо философы станут правителями, либо действующие правители искренне и подлинно обратятся к философии. Сократ настаивает, что без этого фундаментального единства знания и силы идеальное государство останется лишь теоретической конструкцией и никогда не увидит «света солнца».
Альтернативные дополнения (в границах анализа V книги)
Дополнение 1 (С акцентом на природу «парадокса»):
Парадоксальность этого тезиса для современников Платона заключалась не только в его неожиданности, но и в прямом противоречии с общественным восприятием философов. Как отмечает отечественный исследователь А.А. Гусейнов в работе «Идея справедливости в „Государстве“ Платона», в афинском обществе V-IV вв. до н.э. философы часто ассоциировались с бесполезными мечтателями или софистами, далекими от практической жизни. Утверждение, что именно они – ключ к спасению полиса, было вызовом общественному мнению, что и вызывает у Сократа страх перед реакцией.
Дополнение 2 (С акцентом на эпистемологическое обоснование):
С логической точки зрения, этот тезис является прямым следствием определения справедливости как следования своему делу (ἑαυτοῦ πράττειν) по принципу природной предрасположенности. Философ, по Платону, – это тот, чья природа предназначена для познания истины (ἀλήθεια) и идеи блага (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα). Поскольку управление государством – это самое важное «дело», оно должно принадлежать тому, кто обладает соответствующим знанием, то есть философу. Таким образом, парадокс является не произвольным пожеланием, а строгим требованием внутренней логики всей построенной ранее модели.
Дополнение 3 (С акцентом на историко-политический контекст):
Требование «философов у власти» можно рассматривать как ответ Платона на кризис афинской демократии, приведший к казни Сократа. Американский историк философии Дж.Г.Купер в комментариях к «Государству» пишет, что Платон, по сути, противопоставляет власть толпы, основанную на изменчивом мнении (δόξα), власти экспертов, основанной на неизменном знании (ἐπιστήμη). В этом смысле «парадокс» является диагнозом болезни существующих режимов и радикальным предложением по их излечению, где философ-правитель выступает как воплощение объективного разума, стоящего выше интересов толпы или отдельной группировки.
Реакция Главкона и необходимость защиты тезиса
Предстоящая битва идей и необходимость определения понятий
Озвучив «величайший парадокс», Сократ сталкивается с реакцией не гипотетических оппонентов, а своего собеседника. Главкон, выступая как трезвый выразитель общественного мнения, предупреждает, что это заявление вызовет шквал критики и насмешек. По его словам, многие влиятельные люди немедленно «схватятся за первое попавшееся оружие», чтобы опровергнуть столь радикальный тезис.
Осознавая, что без прочного обоснования его позиция будет уничтожена в споре, Сократ признаёт необходимость защиты. Ключевым шагом к этому становится требование дать четкое определение: кого же он называет «истинными философами» (τῶν φιλοσόφων ἀληθινῶν), призванными к управлению? Этот вопрос знаменует собой методологический поворот: от провозглашения смелого тезиса – к его систематической апологии через прояснение базовых понятий, что открывает путь к следующей, центральной части диалога.
Альтернативные дополнения (в границах анализа V книги)
Дополнение 1 (С акцентом на роль Главкона как «адвоката дьявола»):
Реакция Главкона выполняет важную структурную функцию. Как отмечает отечественный исследователь С.В. Месяц в работе «Учение Платона об идеях», фигура Главкона здесь представляет собой «здравый смысл» и общепринятые предрассудки, которые необходимо преодолеть логически. Его предупреждение – это не просто констатация факта, а вызов, заставляющий Сократа перевести разговор из области деклараций в область строгих определений. Таким образом, диалог имитирует идеальную дискуссию, где возражение служит стимулом для углубления аргументации.
Дополнение 2 (С акцентом на связь с сократическим методом):
Необходимость определения понятия «философ» является классическим примером сократического метода (διαλεκτική), который Платон развивает в своем творчестве. Британский платоновед Р.К.Кросс в своей книге «Платон сегодня» подчеркивает, что весь последующий пассаж V-VII книг строится как ответ на этот вызов. Прежде чем говорить о возможности реализации идеала, необходимо достичь согласия о сущности ключевого действующего лица – философа. Это демонстрирует фундаментальный принцип платоновской философии: познание сущности (οὐσία) предшествует обсуждению существования или практического воплощения.
Дополнение 3 (С акцентом на политический подтекст «битвы»):
Метафора «схватить оружие» придает предстоящему спору характер не просто дискуссии, а настоящей битвы идей. Французский философ Пьер Адо в работе «Что такое античная философия?» видит в этом отражение реального конфликта между философией и риторической политикой афинской демократии. Защита тезиса о философах-правителях – это, по сути, защита самого права философии на существование в полисе и на руководящую роль. Определение философа становится оружием в этой битве, так как позволяет отличить истинного философа, стремящегося к знанию, от софиста или демагога, пользующегося лишь видимостью мудрости.
Критический анализ (последующие абзацы)
Утверждение, что страх и нерешительность Сократа – лишь литературный приём («симуляция»), верно улавливает искусность Платона-драматурга, но упрощает его стратегию. Цель этого приёма – не просто «скрыть» истинный замысел под видом отступления. Гораздо глубже Платон использует эту риторическую осторожность для легитимации политической теории через этический дискурс.
Переход от темы справедливости в душе к проекту государства представлен не как смена темы, а как её логическое развитие («справедливость в большем легче разглядеть»). Мнимая нерешительность Сократа маркирует момент, когда этическое исследование достигает своего политического горизонта, и этот переход требует особой осторожности. Таким образом, «симуляция» – это не обман, а педагогический и риторический метод показать, что серьёзная политическая философия рождается не из произвольного конструирования, а из необходимости понять природу человеческого блага. Она сигнализирует о масштабе и радикальности последующих идей, подготавливая аудиторию.
6 (Критический анализ): Ошибочность интерпретации Шлейермахера
Критика интерпретации Фридриха Шлейермахера, который в своих «Введениях к диалогам Платона» (Einleitung zu Platons Staat) рассматривал модель идеального государства сугубо как вспомогательный, подчиненный инструмент для определения справедливости в душе, является ключевой для понимания масштаба замысла Платона. Однако простой инверсией его тезиса не обойтись; требуется показать диалектическую природу связи этического и политического у Платона.
Позиция Шлейермахера заключается в том, что основной целью «Государства» является исследование справедливости как добродетели индивида. В своем «Введении» он прямо пишет, что построение государства – это лишь средство (Mittel), «поскольку справедливость в большем [т.е. в государстве] может быть усмотрена легче, чем в малом [т.е. в душе]» [*Schleiermacher, F. D. E. Einleitung in die Werke Platons. 1804-1828. См. также издание: Schleiermacher, F. Platons Werke. Erster Teil, Bd. 3, 1828. S. 25*]. Таким образом, политический проект для Шлейермахера – это гипотетическая модель, дидактическая иллюстрация, которая должна быть отброшена после выполнения своей функции – прояснения понятия личной добродетели.
Уточнение критики: Платон, безусловно, начинает с этического вопроса (что есть справедливость?), но ход диалога демонстрирует их неразрывную диалектическую связь. Государство возникает не как произвольная аналогия, а как необходимая проекция структуры души на уровень полиса. Уже в начале II книги (368e-369b) Сократ предлагает искать справедливость в государстве, поскольку она там больше, подчеркивая их изоморфизм. Однако к V книге проект приобретает самостоятельную ценность и сложность. Тезис о философах-правителях (473c-d) – это уже не просто иллюстрация к психологии, а фундаментальное политическое условие возможности самой справедливой жизни. Платон показывает, что гармоничная душа (ψυχή) не может полноценно сформироваться в дисгармоничном полисе (πόλις). Таким образом, государство является не просто «риторическим прикрытием», а онтологическим и педагогическим условием возможности гармоничной души.
Итог полемики: Поэтому спор с Шлейермахером – это не просто спор о том, что является главной темой, а о самой структуре платоновской мысли. Шлейермахер ищет линейный, «ключевой» принцип для диалога (этика), тогда как Платон выстраивает холистическую систему, в которой этика и политика взаимно обусловлены. Политическая философия в «Государстве» является не временным отклонением или служебным инструментом, а органичной и необходимой частью единого философского проекта по исследованию блага (τἀγαθόν) для человека и общества. Сведение всего диалога к этике, как это делает Шлейермахер, означает игнорирование радикальности платоновского политического предложения, которое достигает своего апогея именно в V-VII книгах.
7 (Критический анализ): Итоговый вывод о структуре и смысле
Вывод о том, что спор о философах является «самой серьёзной частью», абсолютно верен и указывает на структурный и смысловой центр диалога. Однако утверждение, что V книга «логически отделяется» от VI, нуждается в нюансировке. Гораздо точнее сказать, что V книга создаёт апорию, которую призваны разрешить последующие книги.
Провозглашение «величайшего парадокса» – это не заключение, а постановка главной проблемы. V книга заканчивается на своего рода интеллектуальном клиффхэнгере: тезис объявлен, его парадоксальность признана, и возникает настоятельная необходимость в его обосновании. Таким образом, VI и VII книги – это не просто «следующая часть», а развёрнутый ответ на вызов, брошенный в конце V книги. Логическое единство между ними не прерывается, а, напротив, усиливается: V книга ставит вопрос «что?» (философы должны править), а последующие – «почему?» (что такое философ и каково его знание) и «как?» (как его воспитать). «Величайший парадокс» является осью, вокруг которой вращается вся аргументация «Государства».
Античность и средневековье.Античные комментарии (особенно Аристотеля) критиковали Платона с позиций прагматики и природы человека, указывая на внутренние противоречия и неосуществимость его проекта.
Средневековые комментарии, проходя через призму монотеистической религии (христианства и ислама), либо отвергали платоновские идеи как безнравственные и богопротивные (семья, женщины), либо переинтерпретировали их в духовном, аллегорическом ключе (философы-правители как святые или пророки). Пятая книга «Государства» служила для средневековых мыслителей не практическим руководством, а скорее вызовом, который помогал им точнее сформулировать собственные, теоцентричные политические идеалы.
1. Равенство женщин: «Собачий аргумент» и природа женщины
⦁ Текст Платона (451d-457b): Сократ, используя аналогию с охотничьими собами (кобелями и суками), чья «природа» одинакова для охраны и службы, доказывает, что и женщины-стражи должны получать то же воспитание и выполнять те же функции, что и мужчины. Различие лишь в физической силе, но не в способностях к доблести (ἀρετή).
⦁ Античный комментарий:
⦁ Аристотель («Политика», I, 13) резко критикует этот тезис. Он согласен, что у женщин есть добродетель, но утверждает, что она качественно иная, чем у мужчин. Добродетель правителя и добродетель подчиненного – разные. Мужество мужчины проявляется в командовании, а женщины – в послушании. Для Аристотеля попытка уравнять их противоречит естественному порядку вещей, где мужское начало по природе властвует, а женское – подчиняется. Он видел в идее Платона опасное ослабление государства.
Аристотель не просто отвергает идею Платона – он выстраивает системную аргументацию, основанную на его фундаментальных понятиях: «природа» (φύσις), «добродетель» (ἀρετή) и «отношение господства и подчинения» (ἀρχή καὶ τὸ ἀρχόμενον).
1. Критика «собачьего аргумента»: различие в добродетели
Платон использует аналогию со сторожевыми собами: если кобели и суки выполняют одну и ту же работу, то и мужчины и женщины-стражи должны иметь одинаковые обязанности.
⦁ Контраргумент Аристотеля: Животные, говорит Аристотель, не обладают той полнотой добродетелей, которой должен обладать гражданин идеального государства. У животных есть лишь зачатки «мужества» или «кротости». Человеческая же добродетель – сложна, многообразна и функциональна.
⦁ Ключевой тезис: «…у всех людей должны быть налицо одни и те же добродетели, но, как это и бывает на самом деле, не одни и те же?» Он сразу указывает на качественное различие.
2. Качественное различие добродетелей: правитель vs. подчиненный
Это центральный пункт критики. Аристотель проводит параллель с другими отношениями господства и подчинения в его системе:
⦁ Раб и господин: У раба есть добродетель – он должен быть трудолюбивым и не предаваться праздности. Но у него нет добродетели «разумной» части души в полной мере, только добродетель «повиновения». Господин же обладает добродетелью практического разума, чтобы управлять.
⦁ Дети и родители: Добродетель ребенка – в послушании и развитии. Добродетель отца – в мудром руководстве и воспитании.
⦁ Мужчина и женщина: По Аристотелю, здесь та же логика.
⦁ Добродетель мужчины: связана с способностью к властвованию (ἀρχική), с мужеством в общественной сфере (защита полиса), с практической мудростью (φρόνησις) в принятии решений.
⦁ Добродетель женщины: связана с способностью к подчинению и исполнению, с «домашним мужеством» – распоряжением в хозяйстве, сохранением имущества, но прежде всего – с умением быть хорошей женой и матерью. Ее добродетель – в «умении молчать» и в «благоразумии» (σωφροσύνη), которое понимается как верность и послушание мужу.
Аристотель прямо пишет: «…мужество мужчины выражается в командовании, а женщины – в подчинении». Это не отсутствие добродетели, а ее специфическое, подчиненное проявление.
3. Основание в «естественном порядке» (κατὰ φύσιν)
Для Аристотеля любое сообщество, включая семью и государство, должно соответствовать природе. Он видит в отношениях мужчины и женщины естественный иерархический союз ради продолжения рода.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.