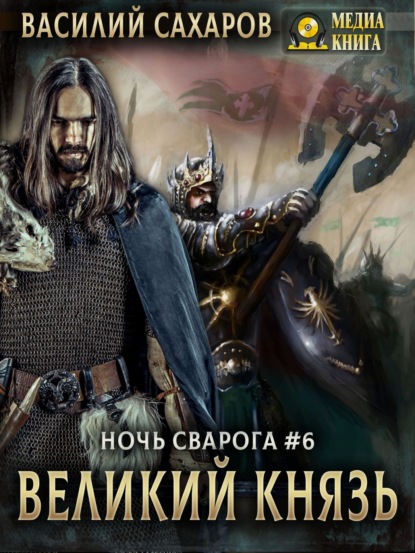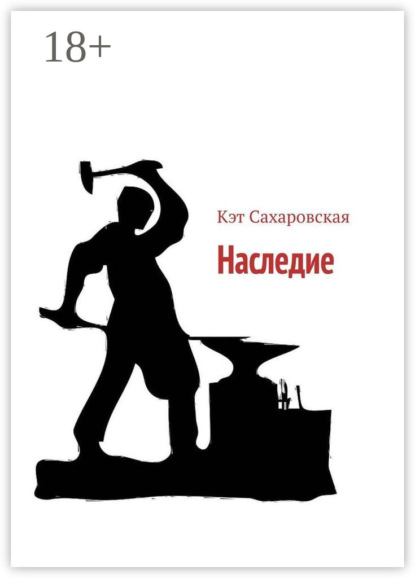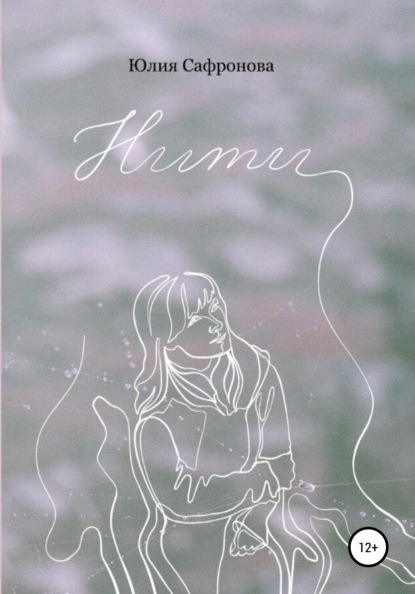Метафизика Аристотеля. Четырнадцатая книга
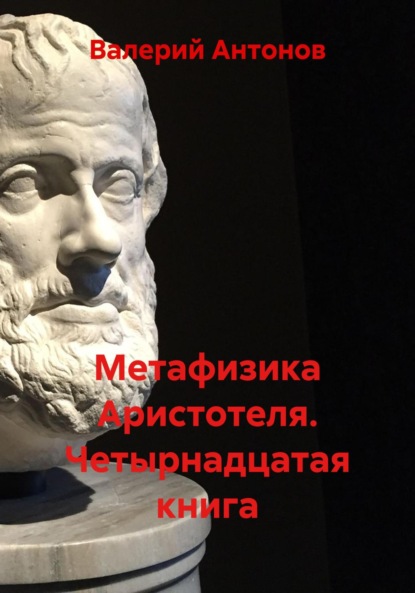
- -
- 100%
- +

Системная критика платонизма в XIV книге «Метафизики» Аристотеля: онтологический статус чисел и проблема первоначал
Введение.
XIV книга «Метафизики» Аристотеля является прямым и системным продолжением его критики платоновской теории идей, сфокусированной на учении об идеальных числах как высшей реальности и первоначалах всего сущего. Этот трактат представляет собой тотальное онтологическое опровержение основной конкурентной модели, где математическое выступает фундаментом бытия. Аристотель подвергает сомнению онтологический статус чисел (отдельно ли они существуют?), их каузальную роль (являются ли они причиной вещей?) и внутреннюю логику всей платоновско-пифагорейской системы, расчищая поле для собственного учения о четырех причинах.
Структура и основной ход мысли Аристотеля с привлечением комментариев
1. Установление фундаментальных принципов (Гл. 1): Критика с позиции категориального анализа
Аристотель начинает XIV книгу с фундаментального методологического утверждения, которое ставит под сомнение саму возможность построения онтологии на основе противоположностей. Его тезис заключается в том, что противоположности (ἐναντίων), такие как «Единое/Многое» или «Предел/Беспредельное», не могут быть первоначалами (ἀρχαί) по своей природе. Причина этого в том, что противоположности всегда существуют в чем-то ином – в некоем субстрате (ὑποκείμενον), или подлежащем. Они являются атрибутами, характеристиками или состояниями этой первичной сущности, но не самостоятельными сущностями. Следовательно, они не самодостаточны (οὐκ ἄνευ τῶν πτώσεων) и не могут служить ultimate explanation бытия. Этот принцип наносит сокрушительный удар по сердцу платоновско-пифагорейской системы, где именно пары противоположностей объявляются первоосновой всего сущего.Ход мысли Аристотеля: Дмитрий Владимирович Бугай акцентирует, что в данной аргументации Аристотель проводит критику не ad hoc, а последовательно применяет разработанный им самим категориальный аппарат. С точки зрения Аристотеля, всё, что говорится о сущем, относится к одной из десяти категорий, главной из которых является сущность (οὐσία). Противоположности же (например, «большое/малое», «чётное/нечётное») по своей природе относятся к категории качества (ποιόν) или отношения (πρός τι). Они не могут существовать самостоятельно, а всегда сказываются о сущности как своем носителе.Комментарий Д.В. Бугая: Таким образом, платоники, по мнению Аристотеля, совершают грубую категориальную ошибку: они пытаются возвести в ранг первоначала и самостоятельной сущности (οὐσία) то, что по своей логической и онтологической природе является лишь свойством, атрибутом или модусом этой сущности. Они путают онтологический статус категорий, что приводит к принципиально несостоятельной модели мира, где свойства отрываются от своих носителей и гипостазируются в самостоятельные реальности.
Этот первоначальный методологический ход является стратегически crucial. Аристотель не вступает в дискуссию внутри парадигмы оппонентов, а сразу оспаривает сами ее основания, навязывая ей свой собственный категориальный язык и онтологические правила. Он показывает, что система платоников построена на логически нерелевантном основании, что предопределяет крах всех последующих построений – учения об идеальных числах, их порождении и их causal роли.Значение этого шага: 2. Критика отдельных учений (Гл. 2-3): Тройной удар по числовой онтологии
Аристотель не ограничивается общей методологической критикой. В главах 2 и 3 он проводит блестящий образец дифференцированного анализа, показывая, что каждая из существующих версий числовой онтологии содержит в себе непреодолимые внутренние противоречия.
2.1. Критика платоников (идеальные числа как отдельные сущности)
· Суть учения: Последователи Платона постулируют существование идеальных чисел (ἀριθμοὶ ἰδεατικοί) как особого класса запредельных сущностей, отличных и от идей, и от математических чисел, и от чувственных вещей.
· Аргументы Аристотеля: Он обрушивается на эту концепцию с требованием объяснения:
1. Онтологический статус: Как и почему эти числа существуют? Если они – самостоятельные сущности, то каков принцип их индивидуации? Что отличает одно число-сущность от другого?
2. Системная согласованность: Как они соотносятся с другими идеями? Существует ли, например, идея числа «3» наряду с идеей «животного» или «блага»? Возникает бесконечный регресс: если для каждой тройки вещей должна существовать причастная ей идея числа «3», то что объединяет сами эти различные «тройки»?
3. Каузальная роль: Если они отделены (χωριστά), то каким именно образом они служат причиной (αἴτιον) для чувственных вещей? Их онтологический статус настолько туманен, что делает любую объяснительную функцию невозможной.
2.2. Критика пифагорейцев (вещи состоят из чисел)
· Суть учения: Пифагорейцы отождествляют сущее с числом, утверждая, что физические тела буквально состоят из единиц-монад (μονάδες) как своих материальных элементов.
· Аргументы Аристотеля: Здесь критика носит наглядный, почти физический характер, сводя абстрактную теорию к абсурдным эмпирическим следствиям:
1. Проблема телесности: Как бескачественные, непространственные и лишённые положения единицы могут сложиться в тело, обладающее весом, плотностью, занимающее место в пространстве? Как число, сущность которого есть количество, может трансмутироваться в качество?
Аристотель показывает, что пифагорейцы пытаются объяснить природу, минуя её собственные принципы, что приводит к полной несовместимости теории с наблюдаемой реальностью.2. Проблема движения: Если всё есть число, то что есть движение? Число по своей природе статично и дискретно, оно не может быть принципом непрерывного изменения и движения, которое мы наблюдаем в физическом мире. 2.3. Критика математиков (математические числа как отдельные)
· Суть учения: Некоторые философы (возможно, современные Аристотелю математики-платоники) считают математические числа (ἀριθμοὶ μαθηματικοί) отдельно существующими от чувственных вещей, занимая промежуточное положение между идеями и миром.
· Аргументы Аристотеля: Критика здесь фокусируется на эпистемологии и онтологии математических объектов:
1. Проблема существования: Где и как существуют эти числа? Если они не в чувственных вещах (как их свойства) и не в мире идей, то возникает третий, непонятный и излишний мир сущностей («третий человек»).
2. Проблема связи: Если они отделены, то почему свойства и законы чувственного мира (например, гармония звуков или геометрические пропорции тел) им подчиняются? Их отделённость делает эту связь чудом или мистической случайностью, а не научным объяснением.
Алексей Фёдорович Лосев, крупнейший знаток античного платонизма, видит в этой критике вскрытие ключевой апории всей платонической системы – пропасти между умопостигаемым и чувственным миром. Платоновские числа, по Лосеву, будучи объявлены первоначалами, на деле не выполняют своей основной функции – объяснения и порождения мира становления. Они оказываются «мёртвыми, неподвижными сущностями, не имеющими действенной силы». Критика Аристотеля демонстрирует, что платонизм, пытаясь объяснить мир через Число, на самом деле объясняет его через нечто, совершенно чуждое его природе – через статичное, лишённое жизни и движения начало. Эта критика, таким образом, является не просто отрицанием, а указанием на фундаментальную структурную слабость конкурентной онтологической модели.Комментарий А.Ф. Лосева: 3. Глубинная проблема: благо и зло (Гл. 4). Этико-онтологическая апория дуализма
Аристотель, разобравшись с онтологическими и физическими недостатками числовой теории, наносит удар в самое сердце платоновской системы – её этико-телеологическое ядро, концепцию Блага.
Он исходит из предпосылки, которую сами платоники должны были бы признать: если их система построена на противоположностях как на первоначалах, и если Единое (τὸ Ἕν) провозглашается Благом (τἀγαθόν) и высшим началом, то логическая структура системы требует, чтобы его противоположность – Многое (τὸ Πλῆθος) или Неравное (τὸ Ἄνισον) – занимала symmetrically opposite позицию. Следовательно, эта противоположность по своей сути должна быть Злом (τὸ Κακόν).Ход мысли Аристотеля: Этот вывод приводит к ряду абсурдных и неприемлемых следствий, которые Аристотель с логической беспощадностью выводит:
1. Онтологизация зла: Зло перестаёт быть просто лишением блага (как оно часто понималось), а становится самостоятельным, вечным и неуничтожимым онтологическим принципом, одним из двух первоначал мироздания. Это – радикальный дуализм.
2. Всеобщая причастность злу: Поскольку всё сущее причастно первоначалам, а значит, и паре противоположностей, выходит, что всё во вселенной причастно злу в самой своей основе. Даже высшие, умопостигаемые сущности оказываются «запятнаны» злом.
3. Самоуничтожающаяся природа зла: Аристотель применяет к этому принципу зла его же собственную природу. Если зло – это противоположность блага, а благо есть цель и perfection, то зло по определению есть принцип разрушения и небытия. Следовательно, будучи самостоятельным началом, зло должно стремиться к самоуничтожению, что является логическим нонсенсом для вечного и неизменного первоначала.
Таким образом, попытка платоников связать свою метафизику с этикой оборачивается её полным крахом: их система не только не объясняет торжество блага как цели мира, но, напротив, делает зло его вечным и неустранимым фундаментом.
Крупные зарубежные аристотелеведы и историки философии (такие как сэр Дэвид Росс (W.D. Ross) и Джулия Аннас (J. Annas)) видят в этой критике не просто логический трюк, а глубокую полемику по сути.Комментарий зарубежных исследователей (У.Д. Росс, Дж. Аннас): · Росс подчёркивает, что Аристотель атакует не столько самого Платона (который в диалогах никогда прямо не отождествлял Неопределённую Двоицу со злом), сколько спекулятивные выводы и развитие его учения его позднейшими последователями в Академии. Аристотель показывает, к каким катастрофическим последствиям приводит буквальное и некритическое принятие числового дуализма.
· Аннас, в свою очередь, акцентирует телеологический аспект критики. Она указывает, что Аристотель демонстрирует: платоновско-пифагорейская модель разрушает саму идею блага как конечной причины и цели мироздания, центральную для обоих философов. У Аристотеля Перводвигатель XII книги – это чистое Благо как объект любви и желания, к которому всё стремится. В дуалистической же системе, критикуемой в XIV книге, миру не к чему стремиться, он раздираем двумя равноправными и противоборствующими началами. Критика, таким образом, прямо готовит почву для положительного аристотелевского учения о целевой причине и неподвижном перводвигателе.
4. Анализ способа «возникновения» (Гл. 5). Критика генетического мифа
Перейдя от статических противоречий к динамическим, Аристотель подвергает сокрушительной критике сам механизм, с помощью которого, по мнению платоников, из первоначал возникают идеальные числа. Его стратегия заключается в том, чтобы рассмотреть все возможные модели порождения и показать, что ни одна из них не применима к вечным и неизменным сущностям.
Платоники утверждают, что числа возникают из взаимодействия двух первоначал – Единого (ὁ Ἕν) и Неопределённой Двойки (ἡ ἀόριστος δυάς). Аристотель требует объяснения: каким именно образом это происходит? Он последовательно разбирает и опровергает все логически возможные модели:Ход мысли Аристотеля: 1. Путь смешения (ἡ μῖξις): Если первоначала смешиваются, подобно ингредиентам раствора, то они утрачивают свою собственную природу, переставая быть чистыми началами. Кроме того, смешение предполагает наличие некоего «сосуда» и внешнего по отношению к ним агента смешения, что ведёт к дурной бесконечности.
2. Путь сложения/соединения (ἡ σύνθεσις): Если Единое и Двойка складываются, как кирпичи, то число оказывается не первичной сущностью, а составной, сложной (σύνθετον). Составное же всегда posterior и менее совершенно, чем его простые элементы, что противоречит claims о числе как о высшей реальности.
3. Путь порождения как из семени (ὡς ἐκ σπέρματος): Если Двойка, подобно семени, принимает и осуществляет форму, задаваемую Единым, то мы имеем дело с классической аристотелевской парой «материя-форма». Но в этой модели:
o Неопределённая Двойка оказывается материей (ὕλη), пассивным началом.
Это прямо противоречит заявлению платоников, что оба начала являются равноценными и противоположными первоначалами. Более того, материя по Аристотелю есть принцип небытия и потенциальности, что снова возвращает нас к проблеме онтологического статуса зла.o Единое – формой (εἶδος), активным началом. Аристотель формулирует главное и неразрешимое для платоников противоречие, вытекающее из любой модели возникновения:Главный апория: вечность составного · Если числа возникают из первоначал, то они не вечны, а значит, не могут быть совершенными первосущностями.
· Если же они вечны (как настаивают платоники), то как нечто вечное и неизменное может состоять из элементов? Любое составное бытие по своей природе подвержено распаду и разрушению, оно метафизически менее совершенно и более ущербно, чем простое. Как могут противоположности, будучи по определению взаимоисключающими, вечно и неизменно пребывать в составе одного числа, не уничтожая друг друга?
Вывод Аристотеля: Доктрина «возникновения чисел» является логически несостоятельным «генетическим мифом». Она пытается применить language физического становления (генезис) к realm вечных и умопостигаемых сущностей, что приводит к категориальной ошибке и непреодолимым парадоксам. Это доказывает, что числа не могут быть первоначалами, а сама платоническая система не может дать последовательного объяснения собственному онтологическому устройству.
5. Окончательный вердикт о причинности (Гл. 5-6). Приговор числовой онтологии
Проведя детальный разбор внутренних противоречий платоновско-пифагорейского учения, Аристотель выносит ему окончательный вердикт, используя в качестве эталона свою собственную, разработанную в «Физике» и других трудах, теорию четырёх причин (αἰτίαι). Этот анализ является не просто ещё одним пунктом критики, а её системным завершением: Аристотель демонстрирует, что числа не только внутренне противоречивы, но и полностью несостоятельны в своей главной претензии – быть объяснительным принципом всего сущего.
Аристотелевский анализ через призму четырёх причин:
1. Не формальная причина (οὐκ αἴτιον ὡς εἶδος):
o Сущность (οὐσία) вещи, её «чтойность», определяется её формой (εἶδος) – специфической организацией материи, которая делает вещь именно тем, что она есть (например, форма души делает живое тело – живым).
o Вердикт: Абстрактное число может описывать количественный аспект формы (например, число частей), но оно не тождественно форме itself. Сущность человека – не число «2» (как двуногое), а сама двуногость как таковая, понимаемая качественно, а не количественно. Число в лучшем случае – акциденция формы, но не её суть.
2. Не материальная причина (οὐκ αἴτιον ὡς ὕλη):
o Материя (ὕλη) – это то, из чего состоят вещи.
o Вердикт: Утверждение пифагорейцев, что «вещи состоят из чисел», есть попытка представить число как материальную причину. Это абсурдно, так как число, будучи количеством, по определению бескачественно и не может выступать в роли субстрата, обладающего физическими свойствами (тяжестью, плотностью и т.д.). Число может выражать пропорцию или структуру материи, но не быть ею.
3. Не движущая (производящая) причина (οὐκ αἴτιον ὡς κινοῦν):
o Это источник движения, изменения и возникновения.
o Вердикт: Число абсолютно статично и пассивно. Оно не обладает ни волей, ни энергией, ни способностью воздействовать на что-либо. Нельзя представить, чтобы число «3» могло быть причиной движения шара или роста дерева. Оно не может быть ни агентом, ни принципом изменения.
4. Не целевая причина (οὐκ αἴτιον ὡς τέλος):
o Это цель (τέλος), ради которой что-либо происходит или существует.
o Вердикт: Благо, к которому всё стремится, есть нечто качественное, а не количественное. Конечной целью живого существа является осуществление своей природы (энтелехия), а не достижение некоего числового состояния. Число не может быть финальной причиной, объектом желания или стремления.
Таким образом, числовая онтология терпит полное фиаско. Она не может указать ни на один из четырёх фундаментальных способов, каким нечто может быть причиной бытия или становления вещей. Её претензия на роль универсального объяснительного принципа оказывается несостоятельной. Этот вердикт является позитивным обоснованием для аристотелевского проекта: подлинными причинами являются форма (формальная и отчасти целевая причина), материя, источник движения и цель (благо), а математика имеет подчинённый, инструментальный статус для познания количественных аспектов реальности, но не её сущности.Итоговый вывод: 6. Разоблачение нумерологии (Гл. 6). Критика «наивного» символизма и подведение итогов
Завершая свою системную критику, Аристотель переходит от высочайших уровней онтологии к её популярным, почти бытовым проявлениям – к нумерологическим спекуляциям, которые были широко распространены среди пифагорейцев и некоторых платоников. Этим он показывает, что ошибка в основах (принятие числа за сущность) неизбежно leads к абсурду на практике.
Аристотель берёт конкретный пример – мистификацию числа 7 (ἑπτά). Его сторонники утверждали, что его особая сила доказывается множеством совпадений: семь Плеяд, семь легендарных героев, идущих против Фив, потеря молочных зубов у человека в семь лет и т.д.Ход мысли Аристотеля: Аристотель подвергает эту методологию уничтожающей критике:
1. Произвольность и selecтивное восприятие: Нумерологи выбирают примеры, которые подходят под их теорию, и игнорируют те, которые ей противоречат. Почему именно семь героев Фив, а не, скажем, число ахейцев под Троей? Почему Плеяд именно семь? Если бы их было восемь, та же методология нашла бы способ мистифицировать и число 8.
2. Смешение категорий: Нумерология совершает грубейшую логическую ошибку, смешивая совершенно разнородные вещи, относящиеся к разным категориям:
o Количество (ποσόν): семь Плеяд.
o Качество (ποιόν): семь возрастов человека.
o Место (πού): семь кругов ада (в более поздних представлениях).
Утверждать, что число «7» одинаково причинно определяет и звёзды на небе, и биологический процесс, и мифологический сюжет – значит полностью игнорировать специфику и сущность этих явлений. Это не доказательство causal связи, а простая аналогия (ἀναλογία), часто натянутая и произвольная.o Отношение (πρός τι): семь против Фив. 3. Отсутствие механизма: Даже если такие совпадения существуют, нумерология не предлагает никакого объяснительного механизма (как именно число «7» вызывает смену зубов?), сводя всё к магической силе числа.
Вывод Аристотеля: Подобные спекуляции – это не наука (ἐπιστήμη), а проявление наивного, до-философского мышления. Они не доказывают, что число управляет миром, а лишь демонстрируют человеческую склонность искать patterns и упрощать сложную реальность. Истинная же наука должна исследовать специфические причины (αἴτια ἴδια) каждого класса явлений, а не подменять их числовыми суевериями.
Исследователи (как отечественные, так и зарубежные – например, В.Д. Росс или Д.В. Бугай) consistently проводят параллель между этой главой и III книгой «Метафизики» (Β), где Аристотель в виде апорий перечисляет основные трудности, связанные с теорией идей и чисел.Комментарий (связь с III книгой и общий итог): · Книга III (Β) ставит вопросы: «Существуют ли числа и идея отдельно?», «Как числа составляют сущность вещей?», «Если числа имеют начало, то как они вечны?».
· XIV книга (N) даёт на них развёрнутый, исчерпывающий и систематический ответ. Критика нумерологии в 6-й главе является финальным опровержением наивного взгляда, что числа буквально «находятся» в вещах как их составляющие (апория материальной причинности).
Таким образом, XIV книга выступает не как отдельный трактат, а как заключительный акт единого критического проекта, начатого ранее. Она демонстрирует, что программа сведения всего сущего к числам как к первоначалам несостоятельна на всех уровнях: от спекулятивно-онтологического (критика первоначал) до практического (критика нумерологии). Это тотальное опровержение очищает поле для позитивного построения аристотелевской метафизики, центрированной вокруг учений о сущности, четырёх причинах и неподвижном перводвигателе.
7. Итог и значение: XIV книга как системное опровержение и основа для собственной метафизики Аристотеля.
Проведённый в XIV книге анализ является не просто частной или узкоспециальной критикой отдельного учения. Это фундаментальное онтологическое опровержение (ἔλεγχος) одной из ведущих философских программ времени Аристотеля. Как заключает А.Ф. Лосев, Аристотель последовательно доказывает, что платоновско-пифагорейская программа сведения всего сущего к числам как к первоначалам является:
1. Внутренне противоречивой (содержит неразрешимые апории в вопросе о возникновении, статусе противоположностей и природе блага).
2. Логически несостоятельной (строится на категориальных ошибках и смешении модусов бытия).
3. Объяснительно бесплодной (не выполняет своей explanatory роли, так как числа не могут выступать ни в одной из четырёх причинных функций).
Этот разносторонний критический анализ выполняет в рамках аристотелевского проекта две ключевые, взаимосвязанные функции:
Книга выполняет роль «метафизического очищения поля». Она устраняет главного концептуального конкурента – математизирующую онтологию, показывая, что числа не могут быть субстанциями (οὐσίαι) или сущностями вещей. Они суть количественные свойства (ποσόν), акциденции, которые сказываются о сущности, но не могут претендовать на роль её основания. Это сокрушение альтернативной модели было необходимым условием для утверждения собственного учения Стагирита.1. Очистительная (Negative) функция: Очистив поле от ложных претендентов на роль первоначала, критика непрямым образом обосновывает и прокладывает путь собственной метафизической системе Аристотеля:2. Созидательная (Positive) функция: · Она защищает и делает единственно возможным его учение о четырёх причинах, где подлинными объяснительными принципами выступают форма (εἶδος как сущность вещи) и цель (τέλος), а не число.
· Она подтверждает статус математики как важной, но подчинённой дисциплины, имеющей прикладной, а не высший онтологический статус. Математика описывает количественные аспекты реальности, но не её сущность.
· Она подготавливает почву для центрального положительного учения всей «Метафизики» – теории неподвижного перводвигателя как чистой формы, ума (νοῦς) и конечной целевой причины всего сущего, лишённой каких-либо количественных характеристик.
Таким образом, XIV книга «Метафизики» представляет собой блестящий образец философской полемики, где разрушение чужой системы является не самоцелью, а необходимым конструктивным этапом в построении собственной, более совершенной и последовательной философской теории. Это не просто критика, а метафизическая терапия, освобождающая мысль от спекулятивных заблуждений и возвращающая её к анализу реальных причин и сущностей чувственного мира.
Четырнадцатая книга. Критика платонизма как основа собственной теории.
Глава 1. Критика учений о первоначалах как противоположностях, в частности Единого и Многого (Неравного).
Общее введение к комментариям
Четырнадцатая книга (Ника) "Метафизики" является заключительной и во многом итоговой. В ней Аристотель возвращается к критике платоновского и пифагорейского учения о числах и первоначалах, детально разобранной ранее в книгах I (А), XIII (М) и отчасти XII (Λ). Глава 1 книги XIV продолжает эту полемику, фокусируясь на проблеме использования противоположностей (в частности, Единого и Многого/Неравного) в качестве первоначал всего сущего. Критика Аристотеля основана на его собственной системе категорий (субстанция, количество, отношение и т.д.) и учении о четырех причинах.
1. Критика самой идеи противоположностей как первоначал.
Текст Аристотеля (Met. 1087a 29 – 1087b 4):
"Но вообще делать начала противоположности – нелепо. Ведь [тогда] начало окажется для одного [какого-то] подлежащего. Действительно, сущности ничто не противоположно; поэтому как может сущность быть началом существующих вещей? А ведь начало не может быть для чего-то другого, иначе было бы начало начала: ведь то, для чего оно начало, и есть его подлежащее, так что оно ему присуще. Но тогда противоположности всегда будут принадлежать некоторому подлежащему и никогда не будут отделимы… Поэтому если бы начала были противоположны, они не были бы отделимы. А на деле нет ничего, что было бы противоположно сущности, что ясно и из определения. Поэтому из противоположностей начала быть не могут, и если так, то не как начала вообще."