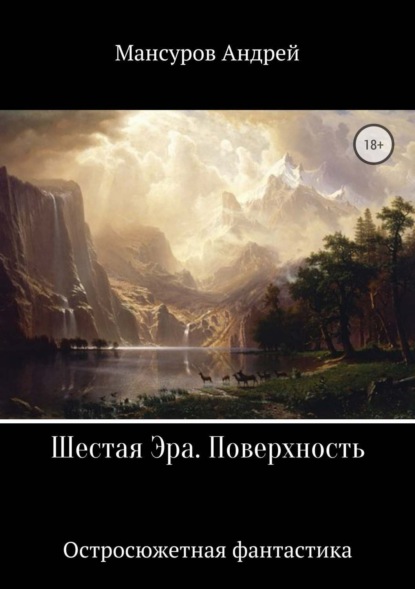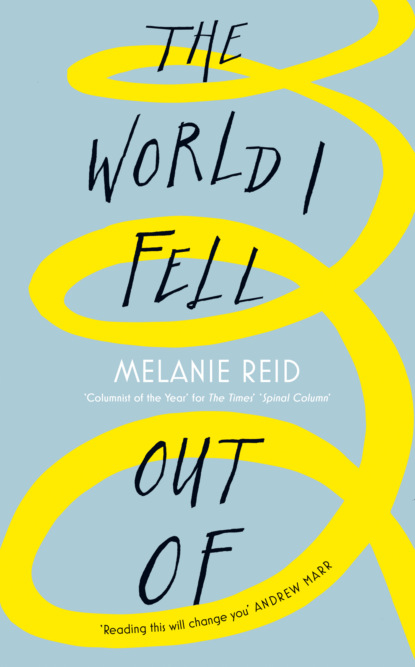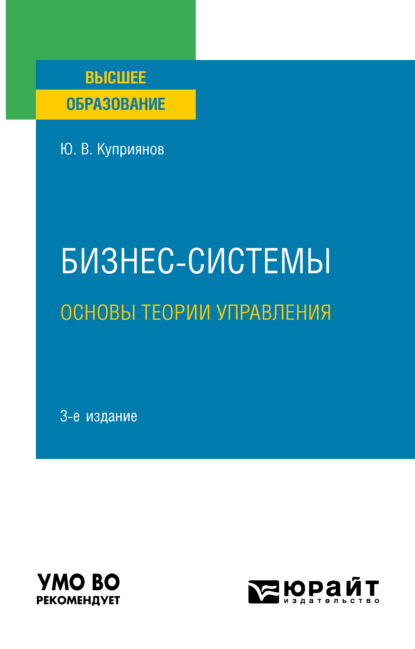Метафизика Аристотеля. Десятая книга

- -
- 100%
- +
Советские историки науки: Анализируют этот пассаж как важный источник по истории античной науки. Он показывает, как теоретическое понятие меры, разработанное в философии, конкретизировалось в специальных научных дисциплинах.
7. Относительность и подобие меры измеряемому(В тексте Аристотеля этот пункт не выделен отдельно, а является частью предыдущей мысли)
Комментарий (СССР/Россия):
В.Ф. Асмус: Принцип однородности, сформулированный в п. 5, служит для Асмуса доказательством материалистической, по его оценке, тенденции у Аристотеля. Мера не является чистой условностью или субъективной конструкцией ума. Она коренится в объективных свойствах самих вещей: длина измеряется длиной, вес – весом. Это делает процесс измерения объективным.
8. Знание и восприятие как мера. Критика ПротагораТекст Аристотеля: «А знание и чувственное восприятие называют мерой вещей по той же причине, потому что мы нечто познаем через них, хотя на самом деле скорее они измеряются, чем измеряют… И Протагор говорит, что человек есть мера всех вещей, имея в виду как раз знающего или воспринимающего… И хотя это сказано, пожалуй, ничего не значащим образом, однако нечто оно все же значит.»
Комментарий (СССР/Россия):
В.Ф. Асмус: Этот пункт – кульминация гносеологической полемики. Аристотель радикально переворачивает тезис Протагора. Не человек-мера вещей, а вещи, обладающие своей объективной мерой, являются мерой для нашего познания. Наше знание и восприятие истинны лишь постольку, поскольку они «соизмеряются» с объектом, а не наоборот. Асмус оценивает это как победу объективной логики над субъективизмом.
Д.В. Бугай: Бугай добавляет логический аспект: Аристотель показывает, что тезис Протагора приводит к логическому противоречию (если каждый человек – мера, то противоречащие друг другу мнения equally истинны), что разрушает саму возможность науки и диалога.
9. Итоговое определение Единого-мерыТекст Аристотеля: «Итак, что 'единое' есть в собственном смысле мера некоторого множества, и это больше всего очевидно для количества; ибо 'единое' есть начало и мера для количества, ия для чисел [мерой служит] единица, для длины – стопа, для слога – буква… И везде 'единое' есть нечто неделимое – или по количеству, или по виду.»
Комментарий (СССР/Россия):
А.Ф. Лосев: Лосев подводит итог: Аристотель свел все значения Единого к одному основному – быть мерой. Но это не просто формальное определение. Это синтез онтологического и гносеологического аспектов. Единое как мера – это то, что делает познаваемым мир (гносеология) и то, что структурирует его самого, внося в него предел и определенность (онтология). Таким образом, аристотелевское Единое, в отличие от платоновского, имманентно миру и познанию.
Современные российские исследователи: Подчеркивают, что итоговое определение носит иерархический характер. Первичная и самая точная мера – количественная (единица числа). Затем по аналогии с ней понимается мера в других родах сущего (качестве, отношении и т.д.). Это отражает общий метод Аристотеля: от математически точного – к менее точным, но не менее важным областям бытия.
Глава 2. Является ли Единое субстанцией? Критика платонизма и пифагореизма.
1. Постановка проблемы: субстанциальность ЕдиногоТекст Аристотеля: «Теперь мы должны снова взяться за вопрос, который уже обсуждался выше в апории, а именно: как Единое ведет себя в соответствии со своей сущностью и природой. Мы должны рассмотреть, что такое Единое и что следует думать о нем: является ли Единое как таковое субстанцией, как утверждали пифагорейцы, а затем Платон, или же оно скорее основано на субстрате; и как этот субстрат можно описать более узнаваемо, более в манере натурфилософов. Ибо из них один утверждает, что дружба – это одно, другой – воздух, третий – бесконечное.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 623-625): Лосев подчеркивает, что Аристотель начинает с прямого указания на своих оппонентов – пифагорейцев и Платона, для которых Единое было самостоятельной, отдельной (χωριστόν) субстанцией. Упомянутые натурфилософы (Эмпедокл – «дружба», Анаксимен – «воздух», Анаксимандр – «бесконечное») также гипостазировали некое первоначало, но их подход Аристотель считает более «узнаваемым» (γνωριμώτερον), так как они ищут начало в пределах самой природы, а не в трансцендентной сфере.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 468): Росс отмечает, что отсылка к «апории» (ἀπορία) ведет к более ранним книгам «Метафизики» (III, IV, VII), где проблема статуса Единого и Сущего уже поднималась. Аристотель здесь не просто повторяется, а дает итоговый, категорический ответ на этот фундаментальный вопрос.
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 145): Бугай акцентирует методологический аспект: Аристотель противопоставляет два подхода – спекулятивно-философский (Платон) и натурфилософски-имманентный. Его собственная позиция будет синтезом: он признает важность категории Единого, но будет искать его не «отдельно», а в самой структуре сущего.
2. Аргумент против субстанциальности Единого: общее не может быть субстанцией.Текст Аристотеля: «Итак, если ничто общее не может быть индивидуальной субстанцией, как было доказано при исследовании индивидуальной субстанции и сущего, и если поэтому общее не может быть индивидуальной субстанцией как Единое, существующее рядом и отдельно от многих, ибо оно общее для многих, но может быть только предикатом, то то же самое верно и для Единого: ведь сущее и Единое – самые общие из всех предикатов. Так что ни роды не являются самостоятельными природами и субстанциями, существующими отдельно от остального, ни Единое не может быть родом и индивидуальной субстанцией по тем же причинам, по которым не является таковым Сущее. Более того, все должно вести себя одинаково.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (там же, с. 626): Лосев видит здесь применение главного оружия Аристотеля против платонизма – критики учения об идеях. Аргумент, развитый в VII книге (Зет) против отдельного существования общего, здесь применяется к самым общим понятиям – Сущему и Единому. Если даже «животное» или «человек» не могут существовать отдельно от отдельных людей, то Единое – тем более. Это «самое общее» (τὸ καθόλου μάλιστα), а значит, наименее способное быть конкретной сущностью (οὐσία).
M. Frede, G. Patzig ("Aristoteles 'Metaphysik Z'", Band 2, S. 50-51): Немецкие комментаторы, анализируя параллельные места в кн. VII, подчеркивают, что аргумент Аристотеля основан на том, что сущность (οὐσία) по определению есть «вот это нечто» (τὸ τὶ ὲν εἶναι), в то время как общее (καθόλου) по определению сказывается о многом. Это логическое противоречие в самой концепции «общей сущности».
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 412): Лега указывает, что вывод «все должно вести себя одинаково» (ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ πάντων) – это указание на универсальный онтологический принцип: ко всему сущему категории Сущего и Единого применяются одинаковым образом, будучи его предикатами, а не самостоятельными сущностями.
3. Аналогия с категориями: Единое как атрибут, а не сущность.Текст Аристотеля: «Существующее и Единое имеют одинаковое количество значений; и поскольку Единое есть нечто и определенная природа в качественном, а также в количественном отношении, теперь необходимо исследовать, что такое Единое в целом, как мы исследовали это в отношении существующего: ведь недостаточно сказать, что это его природа. В случае с цветами Единое – это цвет, например, белый, поскольку другие цвета, очевидно, возникают из него и из черного, но черный – это лишение белого, так же как темнота – лишение света.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 469): Росс объясняет, что Аристотель переходит от отрицательного аргумента (чего Единое не есть) к положительному (что оно есть). Поскольку значения Единого и Сущего коррелируют (каждой категории сущего соответствует свой вид единства), то Единое всегда оказывается чем-то в какой-то категории: одним количеством, одним качеством и т.д. Оно не существует само по себе.
А.Ф. Лосев (с. 627): Лосев обращает внимание на введение важнейшей для Аристотеля категории «лишения» (στέρησις). Белое – это определенное качество (цвет), а черное – его отсутствие, лишение. Единое также часто понимается через противопоставление своей противоположности – многого. Но это не делает его самостоятельным; оно всегда «единое-что-то».
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 312): Бир отмечает, что пример с цветом иллюстрирует, как Единое может быть «принципом» в некотором роде (белое как исходный цвет), не будучи трансцендентной субстанцией. Оно имманентно самой системе цветов.
4. Иллюстрация тезиса на примерах (цвет, звук, фигуры).Текст Аристотеля: «Таким образом, если бы сущее было цветом, то сущее было бы числом. Но числом чего? Очевидно, числом цветов. А единица была бы определенной, например, белой. Точно так же, если бы сущее было звуком, оно было бы числом, но числом четвертьтонов, а не таким, что его сущность сама была бы числом; и Единое было бы тогда такой вещью, сущность которой не Единое, а четвертьтон. Точно так же сущее было бы числом букв в случае звуков, а Единое было бы самогласным. Если бы сущность состояла из прямолинейных фигур, она была бы числом фигур, а единица была бы треугольником. То же самое было бы и в других областях.»
Комментарий:
В.П. Лега (с. 413): Лега комментирует, что Аристотель использует гипотетические примеры («если бы сущее было цветом…»), чтобы прояснить свою мысль. Сущее в каждой категории представляет собой некое множество (число), а Единое – это элемент этого множества (единица счета), который сам по себе является чем-то иным (белым, четвертьтоном, треугольником), а не просто «единицей».
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 477): Бониц, классический комментатор, обращает внимание на терминологию: Аристотель строго различает «быть числом» (εἶναι ἀριθμόν) чего-либо и «быть по сущности числом» (τὴν οὐσίαν αριθμὸν εἶναι). Пифагорейцы, по его мнению, совершали ошибку, приписывая сущему второе, в то время как верно лишь первое.
Д.В. Бугай (с. 146): Бугай видит в этих примерах развитие теории аналогии. Единое аналогично во всех категориях (оно везде выступает как мера и элемент множества), но конкретное содержание его различно. Нет «Единого вообще», есть только «единое-в-качестве», «единое-в-количестве» и т.д.
5. Применение принципа к субстанциям и вывод.Текст Аристотеля: «Если, таким образом, есть числа в изменяющихся свойствах вещей, в качественных, количественных и в движении, и если во всем есть единица, если поэтому число того, что есть одно, есть определенное одно, и не именно это, будучи одним, составляет его сущность, то оно должно вести себя так же и с веществами, поскольку оно ведет себя так же и со всем. Поэтому очевидно, что Единое – это определенная природа в каждой области, но само Единое как таковое не является природой никакой вещи, но как чистое Единое следует искать среди цветов как один цвет, так и в области субстанций как одну субстанцию.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 628): Лосев называет этот вывод Аристотеля «блестящим образцом логического анализа». Индукция от акциденций (свойств) к субстанциям доказывает универсальность принципа. Ключевая фраза: «не именно это, будучи одним, составляет его сущность» (οὐχ ᾗ ἓν τὸ εἶναι αὐτοῖς). Сущность белого – быть определенным цветом, а не быть «единым». Точно так же сущность отдельного человека – быть живым существом определенного вида, а не быть «единым».
W.D. Ross (vol. II, p. 470): Росс подчеркивает итоговый тезис: Единое всегда есть «нечто иное» (ἕτερόν τι), некая конкретная природа. «Само-по-себе-Единое» (αὐτὸ τὸ ἕν) – это абстракция, которая не существует отдельно. Реально существуют «одни сущности» (μία οὐσία), например, отдельный человек или лошадь, которые и являются первичными носителями единства.
Статья: E. V. Di Lascio ("Aristotle on the Individuation of Numbers", Classical Quarterly, 2019, p. 145-146): Автор анализирует этот пассаж в контексте теории чисел Аристотеля. Число всегда есть число чего-то (единиц счета), и эти единицы должны быть чем-то отличным от просто «единицы», иначе возникнет проблема их индивидуации (все единицы тождественны). Ответ Аристотеля: единицы числа – это конкретные сущности или качества.
6. Связь Единого и Сущего: синонимичность и корреляция категорий.Текст Аристотеля: «Но то, что сущее и Единое являются как бы синонимами, следует из того, что они следуют категориям во многих отношениях, не содержась ни в одной из них. Так, Единое не содержится ни в категории «Что», ни в категории «Качество», но ведет себя так же, как и Единое. То, что эти два понятия являются синонимами, также очевидно из того факта, что «человек» говорит не больше, чем «человеческое существо»; точно так же, как «бытие» говорит не больше, чем «что», «качество» или «количество», а «единство» означает бытие вещи.»
Комментарий:
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy", p. 180-199): Оуэн в классической статье "Aristotle on the Snares of Ontology" подробно разбирает этот отрывок. Он показывает, что Аристотель использует «синонимичность» (συνωνυμία) здесь в особом, техническом смысле. Сущее и Единое не являются синонимами в строгом смысле (как, например, «меч» и «клинок»), но они «следуют друг за другом» (ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις) и находятся в отношении взаимной импликации. Утверждать, что нечто есть, – значит утверждать, что оно едино (чем-то одним), и наоборот.
А.Ф. Лосев (с. 629): Лосев объясняет, что «следование категориям» означает, что каждому виду сущего соответствует свой вид единства. Единое «распыляется» по всем категориям, проявляясь в каждой из них по-своему, но при этом не сводится ни к одной. Оно – трансценденталия (хотя Аристотель не использует этот термин).
В.П. Лега (с. 414): Лега обращает внимание на лингвистический аргумент: «человек» (ἄνθρωπος) и «один человек» (εἷς ἄνθρωπος) означают одно и то же – конкретную сущность. Прибавление «единого» не добавляет новой информации о сущности, а лишь указывает на ее неделимость и отдельность, т.е. на ее способ бытия. Таким образом, Единое – это не что иное, как аспект самого Сущего.
Глава 3. Противопоставление Единого и Многого. Тождественное, Подобное и Равное.
1. Единое и Многое как Неделимое и Делимое.Текст Аристотеля: «Единое и многое противопоставляются друг другу несколькими способами. В одном случае единое и многое противопоставляются друг другу как неделимое и делимое: ведь делимое или делимое называется множеством, а неделимое или неделимое – единым. А поскольку существует четыре вида противоположностей, и один из этих видов – отношение лишенности, то единое и многое могут быть противопоставлены таким образом, но не путем противоречия или относительного.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев ("История антической эстетики", т. IV, с. 630): Лосев подчеркивает, что Аристотель начинает с самого фундаментального и онтологического способа противопоставления: через категории делимости и неделимости. Это противопоставление основано на его учении о противоположностях (из «Категорий»), где один из видов – противоположность как наличие и лишенность (ἕξις καὶ στέρησις). Единое здесь трактуется как наличие формы и целостности, а Многое – как лишенность этой целостности, возможность разделения.
W.D. Ross ("Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary", vol. II, p. 471): Росс уточняет, что Аристотель специально оговаривает, что это противопоставление – не по принципу противоречия (ἀντίφασις), где среднего не бывает, и не по отношению (πρός τι). Это важно, так как между Единым и Многим есть промежуточные состояния (например, «несколько»), и они не являются чисто относительными понятиями, подобными «двойному» и «половине».
В.П. Лега ("Аристотель: Метафизика. Перевод и комментарий", с. 415): Лега обращает внимание на онтологический статус этого противопоставления: делимое/неделимое – это свойство самих вещей, а не только нашего мышления. Таким образом, оппозиция Единого и Многого укоренена в самой структуре реальности.
2. Познавательный приоритет Делимого (Многого).Текст Аристотеля: «Но единое выводится и проясняется из противоположного, а неделимое – из делимого, потому что количество и делимое ближе к чувственному восприятию, чем неделимое; так что, согласно чувственному восприятию, количество концептуально раньше, чем неделимое.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 631): Лосев видит здесь проявление аристотелевского эмпиризма и его полемику с платоновским приоритетом единого и умопостигаемого. Для нашего познания, идущего от чувств, множественность и делимость даны первично. Мы сначала видим множество частей, а затем уже постигаем единство целого. Это гносеологический приоритет многого перед единым.
J. Beere ("Doing and Being: An Interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta", p. 315): Бир отмечает, что этот тезис согласуется с аристотелевской теорией познания, изложенной в «Физике» и «Второй Аналитике»: мы движемся от более известного для нас (чувственного, множественного) к более известному по природе (умопостигаемому, единому).
Д.В. Бугай ("Аристотель и традиционная логика", с. 148): Бугай акцентирует логический аспект: понятие «единого» определяется через отрицание – через «не-делимое». Таким образом, в логическом порядке определение многого (делимого) является первичным.
3. Родственные понятия Единого: Тождественное, Подобное, Равное.Текст Аристотеля: «Но к Единому относятся, как мы уже разделили в таблице противоположностей, Одинаковые, Подобные и Равные, к множеству Других, Непохожих и Неравных.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 472): Росс объясняет, что отсылка к «таблице противоположностей» (likely, не дошедшей до нас или подразумевающей некий известный в Ликее список) показывает, что Аристотель систематизирует эти понятия. Он выстраивает иерархию: Тождественное – максимальная степень единства, Подобное – единство в качестве, Равное – единство в количестве.
H. Bonitz ("Aristoteles Metaphysica", Band II, S. 479): Бониц указывает, что эта классификация имеет не только логическое, но и онтологическое значение. Она показывает, как Единое проявляется в разных родах сущего: в субстанции (тождество), в качестве (подобие), в количестве (равенство).
4. Многозначность понятия «Тождественное».Текст Аристотеля: «Тождественное обозначается несколькими способами: во-первых, иногда мы говорим об этом, исходя из числа; во-вторых, мы называем нечто тождественным, когда оно едино как по понятию, так и по числу, как, например, вы тождественны сами себе, и едины как по форме, так и по материи. Кроме того, мы называем две вещи тождественными, если понятие их основной сущности едино: например, одинаковые прямые линии тождественны, как одинаковы и равносторонние четырехугольники, даже если их несколько: но в этих случаях тождество есть единство.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 632): Лосев детализирует: Аристотель различает 1) численное тождество (самотождественность индивида), которое есть высшая степень единства (единство по материи и форме), и 2) видовое тождество (когда разные индивиды имеют одну сущность, одно определение). Второй случай показывает, что тождество не всегда требует численного единства.
G. E. L. Owen ("Logic, Science and Dialectic", p. 200): Оуэн подчеркивает важность различения «тождественного по числу» и «тождественного по виду» для всей аристотелевской метафизики. Это различие лежит в основе его критики платоновских идей: для Платона все равноугольные четырехугольники «тождественны» по причастности к одной Идее, для Аристотеля они лишь «подобны» (см. ниже) и тождественны по виду, но не по числу.
В.П. Лега (с. 416): Лега обращает внимание на пример с геометрическими фигурами: они тождественны, потому что их сущность (форма) полностью описывается их определением (например, «прямая линия», «равносторонний четырехугольник»), которое для всех них едино. Здесь нет места материальному различию.
5. Многозначность понятия «Подобное».Текст Аристотеля: «Мы называем подобным то, что не тождественно само по себе, а также не безразлично в отношении составной субстанции, но тождественно в отношении формы: так, например, больший четырехугольник подобен меньшему, и поэтому неравные прямые линии подобны, но не тождественны. Другие вещи называются подобными, если, имея одну и ту же форму, они не больше и не меньше тех вещей, в которых есть больше и меньше. Другие вещи называются подобными, если они обладают одним и тем же качеством и едины по форме: например, очень белое и менее белое подобны, потому что оба имеют одну форму. Другие вещи называются подобными, если у них больше одинаковых качеств, чем разных, либо самих по себе, либо хотя бы в том, что касается выдающихся качеств.»
Комментарий:
W.D. Ross (vol. II, p. 473): Росс систематизирует значения: 1) Подобие как тождество формы при различии материи (геометрические фигуры разного размера). 2) Подобие как обладание одним и тем же качеством, допускающим интенсивность («более/менее белое»). 3) Подобие как обладание большинством одинаковых свойств. Таким образом, подобие – это менее строгое единство, чем тождество.
А.Ф. Лосев (с. 633): Лосев связывает это учение с античной эстетикой, для которой понятие подобия (ὁμοιότης) было фундаментальным. Искусство основано на подражании (μίμησις), которое есть создание подобия. Аристотель дает онтологическое обоснование этой категории, выводя ее из единства формы.
Статья: C. Shields ("Order in Multiplicity: Homonymy in the Philosophy of Aristotle", 1999, p. 167): Шилдс анализирует это место в контексте аристотелевской теории унивокации, эквivокации и парадигмы. Подобие часто является тем, что позволяет нам применять одно и то же понятие к разным вещам, даже если они не тождественны.
6. Многозначность понятия «Иное» (Другое)Текст Аристотеля: «Из вышесказанного ясно, что различное и несходное также выражаются в разных значениях. Иное отчасти противопоставляется тождественному, по причине чего каждое является либо тождественным, либо иным по отношению к каждому, отчасти оно выражается, когда две вещи не имеют одной субстанции и одного понятия, по причине чего вы и ваш сосед – иные. Третьим способом другой выражается в математике.»
Комментарий:
H. Bonitz (S. 480): Бониц отмечает, что Аристотель выводит значения «Иного» (ἕτερον) из значений «Тождественного». 1) Иное как отрицание численного тождества (логическая противоположность). 2) Иное как отрицание видового тождества (разные индивиды одного вида). 3) Специальное математическое значение (например, «иное число»).
В.П. Лега (с. 417): Лега поясняет, что первое значение («либо тождественно, либо ино») является универсальным законом мышления – законом тождества и запрета противоречия, примененным к отношениям между вещами.
7. Универсальность оппозиции Тождественного и ИногоТекст Аристотеля: «Поэтому все, что называется единым и сущим, как только оно ставится в отношение, является либо другим, либо тождественным. Ибо иное не противоречит тождественному и поэтому не предицируется несуществующему (о нетождественном же говорят, что оно есть), но предицируется всему существующему; ибо существующее и единое по своей природе либо одно, либо не одно. Другой и тождественный противопоставляются друг другу таким образом.»
Комментарий:
А.Ф. Лосев (с. 634): Лосев видит здесь формулировку одного из основных законов диалектики – единства и борьбы противоположностей (тождественного и иного). Эта оппозиция носит всеобщий характер для всего сущего, коль скоро оно «ставится в отношение» (ἐν τῷ πρός τι).
W.D. Ross (vol. II, p. 474): Росс обращает внимание на тонкое логическое различие: «иное» не является противоречащим противоположностью тождественному (как «нетождественное»), а является противоположностью по отношению. Поэтому о не-сущем нельзя сказать, что оно «иное», но можно сказать, что оно «нетождественно». Это уточнение важно для избежания логических парадоксов.
8. Различие между «Иным» и «Отличным»Текст Аристотеля: «Но различие и инаковость также различны. Ибо Другой и то, от чего он является Другим, не обязательно являются Другими через что-то конкретное, поскольку все, что существует, является либо Другим, либо тождественным: с другой стороны, то, что отличается от чего-то, отличается через что-то конкретное, так что должно существовать тождественное, через которое они отличаются.»
Комментарий:
G. E. L. Owen (p. 202): Оуэн дает классическое объяснение: «Иное» (ἕτερον) – это более общее понятие, означающее просто «не то же самое». «Отличное» (διαφέρον) – это более специфическое понятие, означающее «разное в чем-то определенном» (καθ' ἑτέρου τινός). Всякое «отличное» является «иным», но не всякое «иное» является «отличным» в строгом смысле (например, две совершенно разные вещи могут быть просто «иными», не имея конкретного параметра для сравнения).