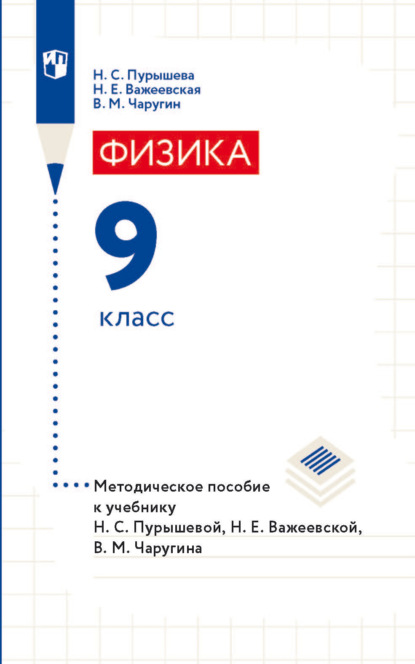Метафизика Аристотеля. Двенадцатая книга

- -
- 100%
- +

Обзор Двенадцатой книги (Лямбда) «Метафизики» Аристотеля: Учение о перводвигателе и структуре бытия
Двенадцатая книга (Лямбда) «Метафизики» представляет собой кульминацию аристотелевского философского проекта – систематическое изложение первой философии как теологии, учения о первых принципах и высших причинах бытия. Книга построена как восхождение от анализа чувственного мира к доказательству существования вечной, неподвижной и умопостигаемой высшей субстанции – Перводвигателя, выступающего источником всякого движения, порядка и целеполагания во вселенной.
Ключевые темы и аргументация по главам:1. Главы 1–2: Иерархия субстанций и принципы изменения
Утверждается примат индивидуальной субстанции (конкретные вещи) как основы бытия.
Вводится триада видов субстанций:
Чувственные и тленные (подлунные существа: растения, животные).
Чувственные и вечные (небесные тела: звёзды, планеты).
Неподвижные и вечные (умопостигаемые сущности).
Обосновывается необходимость материи как субстрата изменения и принципа перехода из потенции (δύναμις) в акт (ἐνέργεια).
2. Главы 3–5: Критика предшественников и природа начал
Критикуются теории Платона (отдельно существующие идеи) и досократиков (материальные элементы или противоположности как начала).
Доказывается, что принципы (материя, форма, лишенность) тождественны для всех вещей лишь по аналогии, но различны в конкретных родах сущего.
Подчеркивается необходимость внешней движущей причины как условия любого изменения.
3. Глава 6: Доказательство существования Перводвигателя
Исходя из предпосылок вечности движения и вечности времени, выводится необходимость существования вечного неподвижного двигателя.
Утверждается примат актуальности над потенциальностью: Перводвигатель должен быть чистой актуальностью (ἐνέργεια), полностью лишённой материи и потенции.
4. Глава 7: Природа Перводвигателя
Перводвигатель есть Ум (Νοῦς), мыслящий сам себя, чьё бытие тождественно мышлению.
Его жизнь – это вечная, наивысшая деятельность (ἐνέργεια), блаженная и лишённая страдания.
Он – конечная причина и цель всякого движения и порядка во вселенной, «божественное» и «лучшее существо».
5. Глава 8: Число перводвигателей
На основе астрономических моделей своего времени (теории гомоцентрических сфер Евдокса и Каллиппа) Аристотель постулирует существование множества неподвижных двигателей (55 или 47), управляющих движением небесных сфер.
Однако над этой множественностью главенствует Единый Перводвигатель как высший принцип.
Утверждается единство космоса и предлагается аллегорическое толкование древних мифов о богах как отражения философского понимания божественного.
6. Глава 9: Божественный ум как мышление себя
Разрешается апория о предмете божественного мышления: поскольку любое иное содержание было бы недостойно его и вносило бы потенциальность, Ум мыслит только собственную сущность.
Его мышление есть «мышление мышления» (νόησις νοήσεως).
Это тождество мыслителя, мыслимого и акта мышления гарантирует его простоту, вечность и совершенство.
7. Глава 10: Благо как цель и порядок вселенной
Благо во вселенной реализуется через иерархический порядок («как в доме» или «в армии»), где всё подчинено единой цели.
Критикуются теории, сводящие благо к противоположностям (Эмпедокл) или не определяющие его организующую роль (Анаксагор).
Утверждается, что только Единый божественный принцип (Перводвигатель) является источником мировой гармонии и единства.
Основные выводы и значение книги:
1. Иерархическая онтология: Бытие структурировано иерархически: чувственные субстанции зависят от вечных (небесных), а все они – от неподвижных умопостигаемых сущностей (перводвигателей).
2. Теология: Перводвигатель – это чистая актуальность, вечный Ум, мыслящий себя, и конечная причина всякого движения и порядка.
3. Телеология: Всё в природе упорядочено и направлено к благу, которое тождественно высшей цели – самодовлеющей деятельности божественного ума.
4. Синтез: Книга представляет собой синтез аристотелевской физики, онтологии и теологии, предлагая монистическое объяснение мира в противовес платоновскому дуализму и материализму досократиков.
Книга завершается знаменитым политико-теологическим утверждением, подводящим итог аристотелевскому монизму: «Множественное правление не бывает благом; да будет же единый властвующий».
Связи XII книги «Метафизики» (Лямбда) с другими трудами АристотеляXII книга «Метафизики» представляет собой не изолированный трактат, а концептуальный синтез и системный итог всей философии Аристотеля. Её содержание глубоко интегрировано в его философскую систему, находя многочисленные параллели и точки развития в других его сочинениях.
1. Связь с другими книгами «Метафизики»
· Книги VII–IX (Зета, Эта, Тета):
– VII (Зета) анализирует сущность (οὐσία) как основу бытия. XII книга развивает это учение, вводя иерархию субстанций (от чувственных и тленных к вечным и неподвижным).
– VIII–IX (Эта, Тета) исследуют категории материи, формы, акта (ἐνέργεια) и потенции (δύναμις). В XII книге эти концепции находят высшее применение: Перводвигатель понимается как чистая актуальность, полностью свободная от материи и потенциальности.
· Книга I (Альфа):
– Критика предшественников (Платона, досократиков) в XII книге является прямым продолжением и углублением историко-философского анализа, начатого в Книге I. Критика платоновских идей и чисел как отделённых сущностей получает здесь своё завершение.
· Книга IV (Гамма):
– Учение о бытии как таковом и о принципе непротиворечия из IV книги находит своё онтологическое основание в XII книге в виде единого, упорядоченного миропорядка, управляемого Перводвигателем.
· Книга VI (Эпсилон):
– Разделение наук на физические, математические и теологические («первую философию») из VI книги непосредственно реализуется в XII книге, которая целиком посвящена изучению высших, неизменных сущностей.
2. Связь с физическими и космологическими трудами
· «Физика»:
– Книга VIII «Физики» содержит доказательство вечности движения и существования первого двигателя. XII книга «Метафизики» даёт его окончательную метафизическую характеристику как нематериального, вечного Ума.
– Концепция естественных мест и вечного кругового движения небесных сфер, разработанная в «Физике», служит физическим обоснованием для метафизического вывода о множестве неподвижных двигателей в XII книге.
· «О небе» (De Caelo):
– Описание совершенства, вечности и неизменности надлунного мира, состоящего из эфира и движущегося по круговым орбитам, служит космологической основой для метафизической теории вечных субстанций и их двигателей.
· «О душе» (De Anima):
– Учение об уме (νοῦς) в III книге «О душе» (различение активного и пассивного ума) проводится параллельно теории божественного ума. Божественный ум в XII книге предстаёт как абсолютная реализация того, чем человеческий ум является лишь как возможность – чистый акт мышления.
3. Связь с этикой и телеологией
· «Никомахова этика»:
– В Книге X высшее человеческое благо определяется как созерцательная деятельность (θεωρία), которая уподобляет человека божеству. Божественный ум в XII книге и есть сама эта вечная, блаженная деятельность самосозерцания, выступающая этическим идеалом.
– Телеология: стремление всякой вещи к своему благу и реализации собственной природы в этике соответствует роли Перводвигателя как конечной причины и объекта желания для всей вселенной.
· Биологические трактаты («О частях животных», «О возникновении животных»):
– Повсеместное использование Аристотелем целевой причины (ὁ οὗ ἕνεκα) для объяснения устройства живых организмов находит своё высшее обоснование в XII книге, где Перводвигатель является верховной Целью, towards которой неявно стремится всё мироздание.
4. Полемика с Платоном и академиками
· Критика теории идей и чисел:
– XII книга является прямым ответом Платону и пифагорейцам. Аристотель доказывает, что общие понятия (идеи, числа) не могут существовать как отдельные сущности. Единственное исключение – божественный Ум, который является не абстрактной идеей, а интеллектуальной субстанцией.
· Отличие от «Тимея» Платона:
– В противовес платоновскому мифу о Демиурге, творящем мир по образцу идей, Аристотель утверждает вечность мира и независимость Перводвигателя от мира-творения. Перводвигатель не творит мир, а движет его как объект любви и цель.
5. Историческое влияние и итог
· Влияние: Учение о Перводвигателе стало краеугольным камнем для последующей философской и theological традиции: от неоплатонизма (Единое у Плотина) и средневековой схоластики (Бог как неподвижный двигатель у Фомы Аквинского) и вплоть до полемики с этой моделью в Новое время (Коперник, Галилей).
Итог: XII книга «Метафизики» – это системный синтез ключевых учений Аристотеля:
· Онтологии (учение о сущем и сущности),
· Космологии (вечная иерархическая вселенная),
· Теологии (учение о божественном Уме как первопринципе),
· Телеологии (целевая причинность как основной объяснительный принцип).
Она служит мостом, связывающим его натурфилософские изыскания с этическим идеалом и критикой предшественников, образуя тем самым завершающий аккорд его грандиозного метафизического проекта.
Глава 1. Первенство индивидуальной субстанции.
Текст:
Отдельная субстанция – предмет нашего рассмотрения: принципы и конечные причины отдельных субстанций, которые мы собираемся исследовать. Ибо, если мы рассматриваем вселенную в целом, индивидуальная субстанция является ее первой частью; если мы рассматриваем сущее в соответствии с его последовательностью, индивидуальная субстанция также является первой, и только после нее идет качественная, а затем количественная.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев, комментируя этот отрывок, подчеркивает, что Аристотель здесь закладывает основу своего конкретного, реалистического подхода в противовес платоновскому идеализму. Первичность индивидуальной субстанции (например, «этот конкретный человек» или «это вот дерево») означает, что общее (например, «человек вообще») существует только в индивидуальном и благодаря ему. Для Аристотеля, как отмечает Лосев, «бытие прежде всего есть нечто индивидуальное, вот это, нечто определенное и оформленное, нечто субстанциальное». Это – краеугольный камень всего аристотелевского учения о бытии.
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 50-55 (и далее по всему труду).
Зарубежный специалист (Вернер Йегер): Немецкий филолог и историк философии Вернер Йегер видит в этом утверждении ключевой момент эволюции мысли Аристотеля от платонизма к его собственному систематическому учению. Йегер интерпретирует это как полемику с Академией, где первостепенное значение придавалось универсалиям (идеям). Для Аристотеля же, по Йегеру, отправной точкой является эмпирически данная, конкретная реальность. Утверждение о том, что индивидуальная субстанция – «первая часть» вселенной, отражает его натурфилософский и научный интерес.
Источник: Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. 2nd ed. – Oxford: Clarendon Press, 1948. – P. 379-381.
2. Бытие как атрибут субстанции
Текст: Более того, все остальное, кроме индивидуальной субстанции, даже не является, строго говоря, бытием, а только качеством и движением: примерно как не-белое и не-прямое; мы действительно приписываем ему бытие, но в том же смысле, в каком мы говорим о не-белом, что оно есть. Точно так же и остальное не обладает особым бытием.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев акцентирует, что здесь Аристотель проводит строгое различие между субстанцией (ουσία) и акциденциями (случайными свойствами, категориями качества, количества и т.д.). Акциденции (например, «белизна», «сидящий») не существуют самостоятельно, они – лишь признаки, модусы бытия субстанции. Их бытие является производным и parasitical (паразитическим) по отношению к бытию субстанции. Выражение «как не-белое» указывает на то, что бытие акциденций – это бытие в смысле присущности чему-то другому (субстанции), а не бытие в собственном, первичном смысле.
Источник: Лосев А.Ф. Указ. соч. – С. 58-60.
Зарубежный специалист (Джозеф Оуэнс): Канадский историк философии Джозеф Оуэнс в своем фундаментальном исследовании «Учение о бытии в аристотелевской „Метафизике“» подробно разбирает этот отрывок. Он подчеркивает, что Аристотель здесь устанавливает проса он (πρὸς ἕν) – отнесенность к одному – всей системы категорий. Все остальные категории (качество, количество, отношение и пр.) называются «бытием» только потому, что они относятся к единственному носителю бытия – субстанции. Их бытие аналогично бытию «не-белого», то есть оно определено через отрицание и полностью зависимо.
Owens J. The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics': A Study in the Greek Background of Mediaeval Thought. 3rd ed. – Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978. – P. 107-110.
3. Свидетельства древних и современных философов
Текст: Фактически, древние философы также свидетельствуют о правильности нашего утверждения, рассматривая принципы, элементы и причины индивидуальной субстанции. Современные философы предпочитают брать в качестве субстанций общее: ведь роды, которые в своем преимущественно концептуальном направлении они склонны рассматривать как принципы и индивидуальные субстанции, являются общим. Древние же считали субстанциями индивидуальное, например, огонь и землю, но не тело как общее.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Российский исследователь античной философии Д.В. Бугай указывает, что под «древними философами» Аристотель подразумевает досократиков (физиков), таких как Фалес (вода), Анаксимен (воздух), Гераклит (огонь), которые в качестве архэ (начала) брали конкретные стихии. Под «современными философами» – четко и недвусмысленно – платоников и самого Платона, которые принимали за истинно сущее общие идеи (роды, виды). Таким образом, Аристотель ищет и находит поддержку своей позиции у предшественников, противопоставляя их «ошибке» своих непосредственных учителей.
Бугай Д.В. Аристотель и платоновская теория идей. // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 29-48.
Зарубежный специалист (Дэвид Росс): Сэр Дэвид Росс, автор классического комментария к «Метафизике», поясняет, что критика Аристотелем «современных философов» заключается в их смешении логического и онтологического планов. Платоники ошибочно принимают родовые понятия (универсалии), которые являются продуктом нашего мышления, за самостоятельно существующие сущности (идеи). Древние же, хоть и наивно, но правильно указывали на конкретные физические элементы как на первоосновы, то есть на нечто индивидуальное и реально существующее.
Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 352-353.
4. Три вида субстанции и соответствующие им науки
Текст: Существует три субстанции: одна из них воспринимается органами чувств, она частично вечна и частично тленна. О тленной субстанции, к которой относятся, например, растения и животные, все согласны: другая субстанция – вечная, элементы которой мы должны стремиться получить, независимо от того, есть ли их только один или несколько. Кроме того, существует третья неподвижная субстанция, которая, по мнению некоторых философов, существует отдельно; одни отделяют друг от друга идеи и математику, другие объединяют их в одну, а третьи считают такой субстанцией только математику. Первые субстанции относятся к физике, поскольку они связаны с движением, вторые – к другой науке, поскольку обе не имеют общего принципа.
А.В. Лебедев (СССР/Россия): Известный советский и российский историк философии А.В. Лебедев отмечает, что здесь Аристотель впервые в XII книге намечает структуру всего сущего и соответствующую ей структуру наук:
Чувственные и подвижные: а) тленные (подлунные: растения, животные); б) вечные (надлунные: эфирные тела, звезды). Это предмет физики.
Неподвижные и вечные: а) математические объекты (как их понимали платоники); б) высшая, божественная субстанция – неподвижный перводвигатель. Это предмет первой философии (метафизики). Упоминание различных мнений (об идеях, математике) – это критика платонизма, который, по Аристотелю, неправильно понимает природу нематериального бытия.
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. / Изд. подгот. А.В. Лебедев. – М.: Наука, 1989. – (В примечаниях к доксографии Аристотеля).
Зарубежный специалист (Мишель Крubeль): Французский исследователь в своем комментарии к XII книге подчеркивает программный характер этого пункта. Аристотель не просто перечисляет виды субстанций, но и определяет иерархию наук. Важнейшее утверждение – что физика и первая философия «не имеют общего принципа», то есть несводимы друг к другу. Это означает автономию метафизики как науки о высших, неизменных и отдельно существующих принципах, в то время как физика изучает природу, принципиально связанную с движением и изменением.
Aubenque P. (ed.), avec la collaboration de M. Crubellier. Aristotle. Métaphysique. Livre Lambda. – Paris: Flammarion, 2019. – P. 58-63.
5. Условие изменения: лежащий в основе субстрат
Текст: Чувственно воспринимаемая субстанция изменчива. Если всякое изменение происходит от противоположного или среднего, но не от всего противоположного (белый цвет, например, не становится белым от голоса), а от противоположного, то должно быть нечто, лежащее в основе, что изменяется в противоположное: ведь изменяется не само противоположное.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Российский историк науки и философии В.П. Гайденко видит в этом тезисе фундамент аристотелевской натурфилософии. Аристотель вводит ключевое понятие субстрата (ὑποκείμενον) – «лежащего в основе». Изменение качества (например, «бледное становится смуглым») невозможно, если нет некоего постоянного носителя этих сменяющих друг друга свойств. Этим носителем и является субстанция как субстрат («человек», который был бледным, а стал смуглым). Это – ответ на апорию возникновения у элеатов («из не-сущего не может возникнуть сущее»): возникает не субстанция, а новое состояние уже существующей субстанции.
Источник: Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 285-290.
Зарубежный специалист (Сара Уотерлоу): Британская исследовательница Сара Уотерлоу (Бродри) в своей работе «Природа, изменение и agency у Аристотеля» детально анализирует этот аргумент. Она обращает внимание на пример с голосом: он показывает, что изменение требует не просто противоположностей, но и соответствующего субстрата, способного принимать эти противоположности. Голос не может стать белым, потому что он не является тем kind of thing (видом вещи), для которого белизна является возможным атрибутом. Субстрат определяет круг возможных изменений для сущего.
Waterlow (Broadie) S. Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics. A Philosophical Study. – Oxford: Clarendon Press, 1982. – P. 30-35.
Статьи, посвященные исследованию XII книги, главы 1 «Метафизики»:
De Filippo, J. G. "Aristotle's Identification of the Prime Mover as God." – The Classical Quarterly, New Series, Vol. 44, No. 2 (1994), pp. 393-409. (Статья рассматривает главу 1 в контексте всего проекта Lambda по восхождению к первой причине).
Bodéüs, R. "Аристотель и теология живых существ." (В кн.: Аристотель. Метафизика. Книга Лямбда. – СПб.: РХГА, 2019. С. 147-169). (Анализирует начало книги, включая гл. 1, как подготовку к доказательству существования божества).
Freudenthal, G. "The Theory of the Opposites and an Ordered Universe: Physics and Metaphysics in Aristotle's Cosmology." – Phronesis, Vol. 31, No. 3 (1986), pp. 197-228. (Статья напрямую касается аргументации, изложенной в п. 5 о противоположностях и субстрате).
Черняков А.Г. "Метафизика Аристотеля: единство многообразия и многообразие единства." // ΣΧΟΛΗ. Т. 2. 2008. С. 243–264. (В статье рассматривается, в том числе, иерархия субстанций, намеченная в гл. 1).
Глава 2. Материя как принцип изменения.
1. Материя как сохраняющийся субстрат изменения
Текст: И действительно, субстрат сохраняется, а противоположность не сохраняется: следовательно, существует третье, отличное от противоположности, – материя.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко подчеркивает, что здесь Аристотель формально вводит понятие материи (ὕλη) как один из трех фундаментальных принципов (архэ) любого изменения. Это не вещество в современном смысле, а чистая возможность, лишенная каких-либо определений, но являющаяся необходимым условием самого процесса изменения. Ключевой аргумент: противоположности (белое/черное, горячее/холодное) не могут переходить друг в друга напрямую, иначе бы изменение было скачком из одного бытия в другое без посредника. Этот посредник и есть материя – то, что сохраняется при смене свойств.
Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 290-295.
Зарубежный специалист (Дэвид Босток): Британский философ Дэвид Босток в своих работах по аристотелевской физике отмечает, что этот вывод является логическим развитием аргументации из конца предыдущей главы (п. 5). Аристотель не просто постулирует материю, а выводит ее существование как необходимое условие возможности изменения, которое мы наблюдаем в чувственном мире. «Третье» – это онтологическое основание тождества вещи в процессе ее изменения.
Bostock D. Aristotle's Metaphysics Books Z and H. – Oxford: Clarendon Press, 1994. – P. 14-17 (анализ аналогичных аргументов в кн. VII).
2. Типы изменения и роль противоположностей
Текст: Теперь, если есть четыре изменения, либо в отношении «что», либо в отношении качественного, либо в отношении количественного, либо в отношении «где», и изменение в отношении индивидуальной субстанции – это становление и исчезновение как таковое, изменение в отношении количества – увеличение и уменьшение, изменение в отношении качества – превращение в другое, локальное изменение – обращение, то из этого следует, что изменение всегда есть переход в соответствующую противоположность.
Комментарии:
С.В. Месяц (Россия): Российский исследователь античной философии С.В. Месяц обращает внимание на то, что Аристотель здесь систематизирует все возможные виды изменения, опираясь на свою теорию категорий. Важнейшим является различение категориального изменения (становление и уничтожение субстанции) и не-субстанциальных изменений (качество, количество, место). Во всех случаях, однако, изменение требует пары противоположностей (форма и лишенность), между которыми и происходит переход. Это универсальный закон изменения для чувственного мира.
Аристотель. Физика. Кн. I-IV. / Пер. и комм. С.В. Месяц. – М.: ГЛК, 2017. – Комментарии к кн. I, гл. 7.
Зарубежный специалист (У. Чарлтон): У. Чарлтон в своем комментарии к «Физике» Аристотеля отмечает, что данная классификация является итогом более подробного анализа, проведенного в «Физике» (V, 1-2). Утверждение, что изменение «всегда есть переход в соответствующую противоположность», является строгим и означает, что для каждого типа изменения существует своя, специфическая пара противоположностей (например, для движения в месте – «вверх/вниз», для качества – «белое/черное» и т.д.).
Источник: Charlton W. Aristotle's Physics Books I and II. – Oxford: Clarendon Press, 1970. – P. 76-80.
3. Изменение как переход из потенции в акт
Текст: Материя, следовательно, должна изменяться, поскольку она обладает способностью и к тому, и к другому. Но поскольку существование двояко, все должно превращаться из потенциального в актуальное, например, из потенциального белого в актуальное белое. То же самое происходит с набором и потерей веса. Таким образом, становление происходит не только из несуществующего, но и из существующего, а именно из потенциального, а не актуального.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит в этом пункте сердцевину аристотелевского учения о динамике бытия. Вводится ключевая пара понятий δύναμις (потенция, возможность, способность) и ἐνέργεια (акт, действительность, осуществленность). Это позволяет Аристотелю дать окончательный ответ парменидовцам: становление происходит не из абсолютного не-бытия, а из бытия в возможности. Материя и есть чистая потенция к принятию формы. Таким образом, изменение – это не возникновение из ничто, а актуализация уже потенциально существующего.