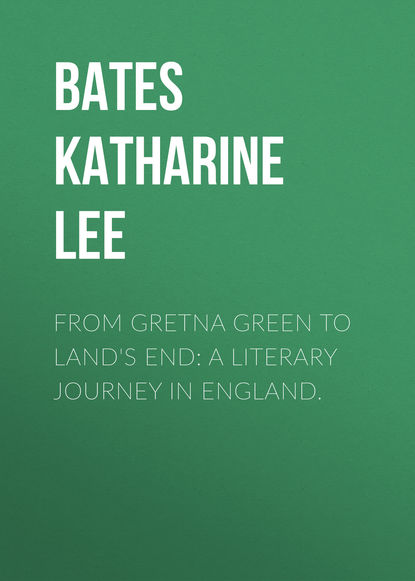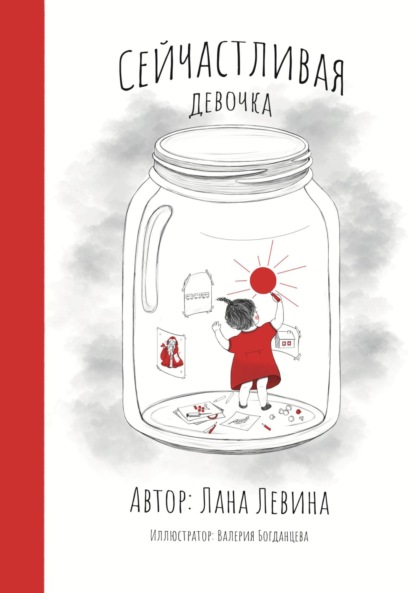Метафизика Аристотеля. Двенадцатая книга

- -
- 100%
- +
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит в этом пункте гениальное решение Аристотеля. Принципы тождественны по своей функции (ἀναλογία), но различны по своему содержанию в каждом роде сущего. Везде есть тройственная структура: 1) определяющая форма, 2) ее отсутствие (лишенность), 3) материя, способная к тому и другому. Но конкретно что является формой, лишенностью и материей – разное для разных сфер. Для термодинамики – это тепло/холод/тело, для оптики – свет/тьма/прозрачная среда (воздух), для этики – добродетель/порок/душа. Это учение о аналогии бытия стало краеугольным камнем всей последующей европейской метафизики.
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – С. 90-94.
Зарубежный специалист (Пьер Обенк): Французский исследователь Пьер Обенк подчеркивает, что аналогия у Аристотеля – это не просто метафора, а строгий логический и онтологический принцип. Она позволяет говорить о единстве метафизики как науки, не отрицая при этом нередуцируемого многообразия и иерархичности самого бытия. Метафизика изучает не некий единый предмет, а разные предметы, сходным образом устроенные.
Источник: Aubenque P. Le problème de l'être chez Aristote. – Paris: PUF, 1962. – P. 190-195.
4. Роль внешней движущей причины и итоговая классификация.
Но поскольку причиной является не только внутреннее, но и внешнее, например, движущееся, из этого следует, что принцип и элемент различны. Но и то, и другое – причины, и если принцип разделить на эти два, то то, что движется или приводит в состояние покоя, есть принцип и субстанция. По аналогии, таким образом, существует три элемента и четыре причины и принципа, но элементы и принципы, и особенно первая движущая причина, различны в разных вещах. Например, здоровье, болезнь, тело, движущая причина – искусство врачевания. Форма, определенный беспорядок, кирпичи, движущая причина искусства строительства. И принцип делится на эти виды причин.
Комментарии:
С.В. Месяц (Россия): Месяц обращает внимание на важное разграничение: элементы (στοιχεῖα) – это внутренние составляющие вещи (материя, форма, лишенность). Принципы (ἀρχαί) – это более широкое понятие, включающее также и внешнюю действующую причину. Таким образом, знаменитое учение о четырех причинах (материальная, формальная, движущая, целевая) является развитием и усложнением учения о трех элементах. Целевую причину Аристотель здесь, по сути, отождествляет с формальной (искусство врачевания есть понятие здоровья).
Источник: Аристотель. Физика. Кн. I-IV. / Пер. и комм. С.В. Месяц. – Комментарии к кн. II, гл. 3 и 7.
Зарубежный специалист (Теренс Ирвин): Ирвин отмечает, что в этом пункте Аристотель подводит итог своей классификации причин. Ключевой вывод: конкретная природа движущей причины различна для разных родов сущего. В природе это предшествующий индивид (человек-отец), в искусстве – разум мастера и его знание формы, в спонтанных процессах – слепая необходимость. Это подготавливает почву для вопроса о высшей, всеобщей движущей причине.
Источник: Irwin T. Aristotle's First Principles. – P. 90-92.
5. Сведение причин к трем и указание на Перводвигатель.
Но поскольку движущей силой в случае реальных, телесных людей является человек, а в случае идеальных, воображаемых людей – форма или ее противоположность, мы получаем четыре причины, тогда как в противном случае, в определенном смысле, их три. Ведь искусство врачевания – это в определенном смысле здоровье, искусство строительства – это форма дома, а человек порождает человека. Кроме того, существует, однако, как первая, всеподвижная причина.
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф поясняет заключительный тезис главы. Аристотель показывает, что четыре причины часто могут быть сведены к трем. Действующая причина (движущая) часто совпадает с формальной (отец обладает человеческой формой, искусство врачевания есть logos здоровья). Таким образом, в конечном счете, мы возвращаемся к тройственной структуре (форма, лишенность, материя), но обогащенной пониманием того, что форма является и целью, и часто – источником движения. И здесь, в самом конце, Аристотель делает решающий шаг: он указывает на необходимость первой, всеобщей движущей причины, которая сама недвижима. Это – прямое указание на тему последующих глав (6-10) о Неподвижном Перводвигателе.
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – С. 130-132.
Зарубежный специалист (Вернер Йегер): Йегер рассматривает эту фразу как кульминацию всей аргументации глав 1-4. Аристотель, начав с анализа чувственного, изменчивого мира и его имманентных принципов, логически приходит к необходимости выйти за его пределы. Имманентных причин недостаточно для объяснения самого факта существования мира и его порядка. Требуется трансцендентный принцип – вечный, неподвижный, чисто актуальный перводвигатель, который является конечным объяснением всякого движения и становления.
Источник: Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. – P. 386-389.
Общие работы, посвященные XII книге «Метафизики»:
Frede, M. and Charles, D. (eds.). Aristotle's Metaphysics Lambda. Symposium Aristotelicum. – Oxford: Oxford University Press, 2000. (Сборник статей ведущих мировых специалистов, целиком посвященный разбору Книги Лямбда).
Horn, C. Aristotle’s Metaphysics XII. – Darmstadt: WBG, 2016. (Современный подробный комментарий на немецком языке).
Бородай Т.Ю. Аристотель. Метафизика I (А), XII (Λ). // Платон. Соч. в 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – С. 409-422. (Классический русскоязычный комментарий к ключевым книгам).
Аристотель. Метафизика. Книга Лямбда. / Пер. и комм. С.В. Месяц, Э.В. Вольф, В.В. Петров и др. – СПб.: РХГА, 2019. (Новейший русский перевод с подробными комментариями специалистов по каждому разделу).
Глава 5. Актуальное и потенциальное как общие по аналогии принципы сущего.
1. Первенство индивидуальной субстанции как причины.
Поскольку одно обладает особым существованием, а другое – нет, то одно является индивидуальной субстанцией, а значит, и причиной всего, поскольку без индивидуальных субстанций нет качеств и движений. Такими субстанциями являются, например, душа и тело, или разум, желание и тело.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев акцентирует, что здесь Аристотель возвращается к центральному тезису всей своей метафизики, но теперь обосновывает его с новой стороны. Индивидуальная субстанция – не просто первичный вид сущего, но и причина существования всех остальных категорий (качеств, количеств и т.д.). Акциденции существуют лишь как свойства субстанций. Пример «душа и тело» показывает, что сама индивидуальная субстанция понимается как сложное целое, где форма (душа) является причиной бытия и единства для своей материи (тела).
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 94-96.
Зарубежный специалист (Майкл Вэдин): Профессор Вэдин обращает внимание на пример «разум, желание и тело». Это указывает на иерархическую структуру сложной субстанции. Высшие способности (разум) являются формальными и целевыми причинами для низших (желание) и для тела. Таким образом, индивидуальная субстанция сама является системой причинно-следственных отношений, микрокосмом, отражающим causal structure макрокосма.
Источник: Wedin M.V. Aristotle's Theory of Substance: The Categories and Metaphysics Zeta. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 50-52.
2. Единство принципов по аналогии: акт и потенция.
Кроме того, в другом случае, по аналогии, принципы одни и те же, например, актуальность и потенциальность: но они также различны в разных вещах и разными способами. Иногда одна и та же вещь бывает то актуальной, то потенциальной, например, вино, плоть или человек. Но и это подпадает под упомянутые причины. Ибо актуальное – это форма, если она делима, и продукт формы и материи; лишенное – это темнота или больной; потенциальное – это материя, ибо она способна стать и тем, и другим.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко видит здесь высший уровень обобщения аристотелевской теории причин. Пара акт (ἐνέργεια) и потенция (δύναμις) становится самой универсальной парой принципов, охватывающей все предыдущие (форма/материя, наличие/лишенность). Это принципы, тождественные по аналогии для любого рода сущего. Любое изменение и любое бытие можно описать как переход из потенции в акт. Важно, что актуальное отождествляется с формой, а потенциальное – с материей, что завершает их концептуальный синтез.
Источник: Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 303-305.
Зарубежный специалист (Джонатан Лир): Лир подчеркивает, что введение акта и потенции как высших принципов позволяет Аристотелю динамизировать всю свою онтологию. Бытие – это не статичное состояние, а процесс осуществления возможностей. Пример «вино, плоть или человек» показывает, что одна и та же вещь может быть актуальной в одном отношении (вино как напиток) и потенциальной в другом (вино как потенциальный уксус).
Источник: Lear J. Aristotle: The Desire to Understand. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 55-58.
3. Конкретный пример причин: происхождение человека.
Другим образом, в отношении актуальности и потенциальности то, что не имеет той же материи, отличается от того, что не имеет той же, но иной формы: так, причинами человека являются стихии, огонь и земля, а именно они как материя, кроме того, надлежащая форма и внешняя причина, если таковая имеет место, например, отец, и, кроме того, солнце и косая солнечная орбита, которые не являются ни материей, ни формой, ни лишением, ни подобным, но движущимися причинами.
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф анализирует этот пассаж как пример применения общей теории к конкретному случаю. Аристотель перечисляет все четыре причины возникновения человека:
Материальная: элементы (огонь, земля и т.д.) как remote matter.
Формальная: «надлежащая форма» – видовая сущность человека.
Действующая: непосредственная – отец; удаленная – Солнце и его годичное движение по эклиптике.
Упоминание Солнца – ключевой момент. Оно является трансцендентной движущей причиной для всего подлунного мира, обеспечивая циклы возникновения и уничтожения. Это связывает теорию причин с натурфилософией и космологией.
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – С. 132-135.
Зарубежный специалист (Дэвид Седили): Профессор Седили в своем комментарии к «Физике» отмечает, что ссылка на Солнце и его движение является отсылкой к учению Аристотеля о вечном круговом движении небесных сфер как об источнике всякого изменения в подлунном мире. Таким образом, объяснение даже самого частного события (рождение человека) требует обращения ко всей космологической системе вплоть до ее первопричины.
Источник: Sedley D. Is Aristotle's Teleology Anthropocentric? // Phronesis, Vol. 36, No. 2 (1991), pp. 179-196.
4. Принцип индивидуального против общего.
Кроме того, мы должны помнить, что одно является общим для всех, а другое – нет. Итак, первыми принципами всего являются, во-первых, актуальное, во-вторых, формальное, в-третьих, потенциальное. Поэтому общее не является принципом. Принцип отдельного человека – это отдельный человек, но общий человек не является принципом отдельного человека, а принцип Ахилла – это Пелей, принцип твоего отца, принцип этого конкретного ba – это этот конкретный b, а b в целом – это причина ba par excellence. Далее, формы являются причинами отдельных субстанций.
Комментарии:
Д.В. Бугай (Россия): Бугай видит здесь кульминацию полемики Аристотеля с платонизмом. Аристотель проводит жесткое различие между логическим общим (универсалия, «общий человек») и онтологическим принципом (конкретная действующая причина, «этот человек-отец»). Универсалия не может быть причиной, так как причина всегда конкретна и актуальна. Рождение объясняется не «Человечностью вообще», а конкретным отцом. Таким образом, индивидуальная субстанция является причиной самой себя в процессе воспроизводства. Это – окончательное утверждение примата индивидуального над общим.
Источник: Бугай Д.В. Аристотель и платоновская теория идей. // ΣΧΟΛΗ. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 45-48.
Зарубежный специалист (Шарлотта Витт): Американская исследовательница Шарлотта Витт обращает внимание на сложность последней фразы: «формы являются причинами отдельных субстанций». Она утверждает, что Аристотель здесь говорит не об отдельно существующих формах, а о формах-в-индивидах. Индивидуальная форма Сократа, унаследованная от его отца, является причиной того, что Сократ есть человек. Таким образом, форма тоже индивидуальна, а не универсальна.
Источник: Witt C. Ways of Being: Potentiality and Actuality in Aristotle's Metaphysics. – Ithaca: Cornell University Press, 2003. – P. 115-120.
5. Тождество и различие причин в разных категориях и индивидах.
Но причины и элементы, как я уже сказал, различны в различных вещах, которые не принадлежат к одной и той же области, например, в цветах, звуках, индивидуальных субстанциях, количественных вещах: они тождественны только по аналогии. Даже в случае тех вещей, которые принадлежат к одному и тому же виду, они различны, не различны по виду, но в той мере, в какой в индивидуальном существе, например, во мне и тебе, материя, движение и форма различны, хотя и тождественны в общем понятии.
Комментарии:
А.В. Апполонов (Россия): Апполонов подчеркивает, что Аристотель проводит различие на двух уровнях:
Между родами сущего: Причины цвета и причины звука различны по своему содержанию (разная материя, разные формы), но тождественны по своей функции (аналогия).
Между индивидами внутри одного вида: Материя Сократа и Ксантиппы различна (разные тела), движущая причина различна (разные родители), и даже их индивидуальные формы различны (Сократ – не Ксантиппа), хотя в общем понятии («человек») они тождественны. Это – радикальный индивидуализм Аристотеля: принципы онтологически уникальны для каждой вещи.
Источник: Апполонов А.В. Аристотель и поздняя классика: курс лекций. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – С. 100-102.
Зарубежный специалист (Майкл Ферейон): Фреде комментирует, что этот показывает пределы научного обобщения для Аристотеля. Наука (физика, биология) имеет дело с общими понятиями и общими для вида причинами. Но метафизика, стремящаяся к первопричинам, должна признать, что в строгом смысле каждая индивидуальная сущность имеет свои собственные, уникальные принципы. Это создает напряженность между требованием научной всеобщности и онтологической уникальностью.
Источник: Frede M., and Charles D. (eds.) Aristotle's Metaphysics Lambda. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – P. 85-90.
6. Итоговый вывод о принципах.
Если мы рассмотрим, каковы принципы или элементы отдельных субстанций, относительных и качественных, тождественны ли они или различны, то обнаружим, что они тождественны, если излагать их в целом, не тождественны, но различны, если разделять их, и лишь определенным образом тождественны для всего. Определенным образом, то есть по аналогии, они тождественны, потому что они – материя, форма, лишение, движение, и определенным образом причины отдельных субстанций являются причинами всего, потому что, когда они отменяются, отменяется все. Кроме того, Первое соответствует свершившейся реальности. В определенном смысле первым является нечто другое, а именно противоположности, которые не обозначаются ни как роды, ни как общее. Также и субстанции. Итак, что такое принципы чувственно воспринимаемого, и сколько их существует, и в чем они тождественны, а в чем различны, было изложено.
Комментарии:
В.В. Петров (Россия): Петров рассматривает этот как итоговый вывод всего анализа чувственного сущего (гл. 1-5). Аристотель резюмирует свое решение проблемы единства и множественности принципов:
Тождество «в целом»: На высшем уровне абстракции – это акт и потенция.
Тождество «по аналогии»: Для каждого рода сущего – это материя, форма, лишенность и движение.
Различие «в частности»: Конкретное наполнение этих принципов уникально для каждого рода и даже для каждой индивидуальной вещи.
Утверждение «Первое соответствует свершившейся реальности» – это прямой переход к теме Неподвижного Перводвигателя как чистой актуальности, лишенной всякой потенции.
Источник: Петров В.В. Множественность форм и проблема единого ума… – С. 435-438.
Зарубежный специалист (Сара Уотерлоу): Уотерлоу видит в заключительных словах главы указание на иерархию принципов. «Первый» принцип – это чистая актуальность. Но для чувственного мира «первыми» в другом смысле являются противоположности (форма/лишенность), так как они непосредственно обуславливают изменение. Однако эти противоположности сами по себе не являются ни общими понятиями, ни отдельными сущностями – они принципы, modes of being. На этом анализ изменчивого бытия завершается, и метафизика обращается к бытию вечному и неизменному.
Источник: Waterlow (Broadie) S. Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics. – Oxford: Clarendon Press, 1982. – P. 130-135.
Глава 6. Доказательство необходимости вечной неподвижной субстанции.
1. Вечность движения и времени как отправной пункт.
Поскольку, как мы видели, существует три субстанции, две физические и одна неподвижная, поговорим о последней и покажем, что вечная неподвижная субстанция обязательно должна существовать. Субстанции – первые среди существующих вещей: если все они преходящи, то и все преходяще. Но движение не может стать или исчезнуть, поскольку оно всегда было, как и время, поскольку не может быть раньше или позже, если нет времени. Поэтому движение также непрерывно, как и время, поскольку последнее либо тождественно движению, либо является его качеством. Но никакое движение не является непрерывным, кроме локального, а именно кругового.
Комментарии:
В.П. Гайденко (СССР/Россия): Гайденко подчеркивает, что Аристотель начинает доказательство с феноменологического и научного основания – с констатации вечности движения и времени, что было общепринято в античной космологии. Ключевой логический ход: если субстанции первичны, а все они тленны, то в какой-то момент всё должно было исчезнуть и никогда не возникнуть вновь. Но мы видим, что мир существует. Следовательно, должна существовать нетленная субстанция. Утверждение о непрерывности движения и времени и идентификация единственно непрерывного движения как кругового – это прямой вывод из его физики (небесные сферы движутся вечно по кругу).
Источник: Гайденко В.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М.: Наука, 1980. – С. 305-308.
Зарубежный специалист (Дэвид Росс): Росс в своем комментарии обращает внимание на связь времени и движения. Время, по Аристотелю, есть «мера движения». Поэтому вечность времени имплицирует вечность движения. Аргумент, что движение не могло возникнуть (ибо для этого уже должно было существовать движение-причина), является вариантом аргумента против возникновения бытия из не-бытия, примененного к изменению.
Источник: Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 373-375.
2. Недостаточность потенциального бытия как причины движения.
Если же нечто, способное к движению или действию, существует, но не переходит в актуальность, то никакого движения не происходит, ибо вполне возможно, что потенциал не активен. Таким образом, если мы предполагаем вечные субстанции, как это делают те, кто предполагает идеи, то ничего не получится, если эти субстанции не будут населены принципом, способным вызывать изменения. Этот принцип, следовательно, недостаточен, как и любая другая субстанция, кроме идей: ведь если он не активен, то не может возникнуть никакого движения. Это не так, даже если он активен, но его сущность потенциальна: ведь в этом случае не было бы вечного движения, поскольку то, что потенциально, не может быть. Поэтому должен существовать такой принцип, сущность которого – актуальность.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев видит здесь ядро аристотелевского доказательства. Аристотель критикует платоновские идеи за их статичность и недеятельность. Даже если идеи вечны, они, будучи чистыми сущностями, не содержат в себе принципа деятельности. Они – потенциальные объекты познания, но не действующие причины. Более того, даже если некая сущность активна, но ее бытие включает потенциальность, она не может быть причиной вечного движения, так как потенция может и не актуализироваться. Следовательно, требуется сущность, чье бытие есть чистая актуальность (ἐνέργεια), лишенная всякой потенции (δύναμις).
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 100-103.
Зарубежный специалист (Абрахам Бос): Голландский исследователь А. Бос комментирует, что этот аргумент основан на принципе причинности: причина должна быть онтологически выше следствия. Вечное движение требует причины, которая сама является вечной и деятельной по своей сущности, а не по случайности. Сущность, обладающая потенцией, по определению может и не действовать, а значит, не может гарантировать непрерывности вечного движения.
Источник: Bos A.P. Cosmic and Meta-cosmic Theology in Aristotle's Lost Dialogues. – Leiden: Brill, 1989. – P. 78-81.
3. Трудность и её разрешение: актуальность прежде потенции.
Но здесь возникает трудность. Ведь кажется, будто все актуальное также актуально, но не все актуально, так что актуальность была бы раньше. Но если бы это было так, то ничто из существующего не могло бы существовать: ведь нечто может обладать способностью быть, не будучи по этой причине уже существующим. То же самое возражение относится к доктрине теологов о том, что вселенная возникает из ночи, и к доктрине натурфилософов о том, что все вещи были вместе. Ибо как может происходить движение, если его причиной не является ничего реального?
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф поясняет, что Аристотель рассматривает возможное возражение: если актуальность всегда первична, то как вообще может возникнуть нечто новое? Кажется, что потенция должна быть первичнее (семя прежде дерева). Аристотель разрешает эту апорию, показывая, что для актуализации любой потенции требуется уже актуально существующая причина. Дерево вырастает из семени, но семя было порождено актуально существующим деревом. Таким образом, в порядке причинности актуальность всегда первична. Теологии, выводящие мир из Хаоса или Ночи, не могут объяснить, как из чистой неопределенности (потенции) возникает порядок без уже действующей причины.
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – С. 140-143.
Зарубежный специалист (Ричард Сорабджи): Сорабджи обращает внимание на универсальность этого принципа. Аристотель применяет его ко всему ряду причин: чтобы потенция могла реализоваться, должна существовать актуальная причина, которая сама для своей актуализации требовала предыдущую актуальную причину, и так далее. Чтобы избежать бесконечного регресса, необходимо признать первую причину, которая является актуальной сама по себе, ни от чего не зависящей.
Источник: Sorabji R. Necessity, Cause, and Blame: Perspectives on Aristotle's Theory. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – P. 150-153.
4. Критика предшествующих учений о движении.
Материя не может двигаться сама по себе, но ее приводит в движение искусство строительства; месячные и земля тоже не могут двигаться сами по себе, но их приводят в движение семя и потомство. По этой причине некоторые, например, Лисипп и Платон, утверждают вечную активность, ибо, по их словам, движение есть всегда. Но почему и какое движение, они не говорят, как и не указывают причину, по которой движение происходит именно так. Ведь ничто не движется случайно, но всегда должен существовать движущий агент: так, что-то движется иногда по природе, иногда по силе, или по причине, или по чему-то еще. Кроме того, возникает вопрос о том, какое движение является первым, что имеет огромное значение. В частности, Платон не может поставить в качестве первого принципа то, что он иногда считает принципом, – то, что движется само по себе: ведь мир-душа, как он говорит, позже, и в то же время как небо.
Комментарии:
М.А. Дынник (СССР): Дынник отмечает, что здесь Аристотель критикует современные ему учения за недостаточную последовательность. Он соглашается с их выводом о вечности движения (у Левкиппа, Платона), но упрекает их в том, что они не указывают конкретную причину и вид этого движения. Просто постулировать «движение всегда есть» – недостаточно для научного объяснения. Нужно показать, почему оно вечно и какое движение является первичным. Критика Платона особенно остра: его самодвижущаяся душа не может быть первым принципом, так как она сама сотворена демиургом и, следовательно, вторична.