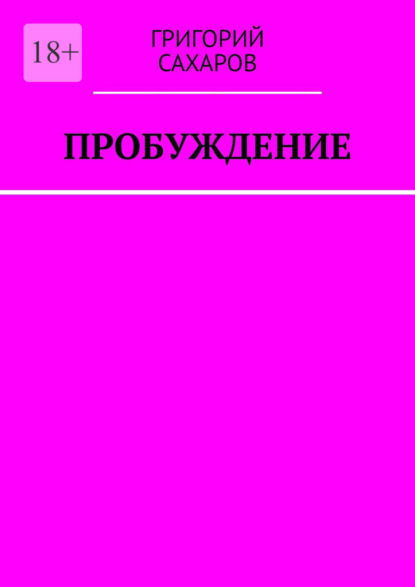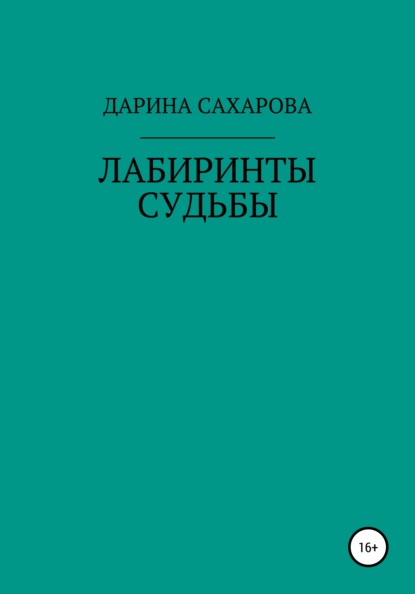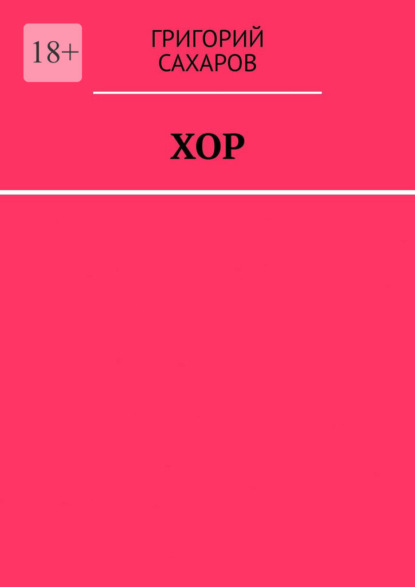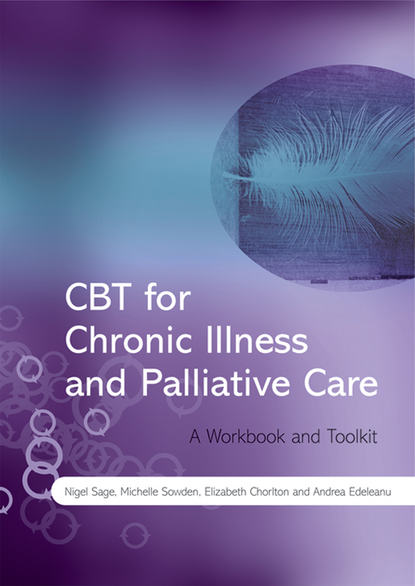Метафизика Аристотеля. Двенадцатая книга

- -
- 100%
- +
Источник: Mueller I. Aristotle on Geometrical Objects. // Archiv für Geschichte der Philosophie, 52(1970), pp. 156-171.
4. Обзор астрономических теорий Евдокса и Каллиппа.
Что касается их количества, то для ясности мы приведем мнения некоторых математиков, чтобы получить определенное представление об их количестве. Кстати, одно мы должны исследовать сами, а другое узнавать от тех, кто о них расспрашивал; и если знатоки предмета не согласны с тем, что мы сказали, давайте отдадим предпочтение обоим, но согласимся с более точным. Евдокс предполагал, что движение солнца и луны происходит в трех сферах, первая из которых – неподвижные звезды, вторая – направление круга, проходящего через центр зодиака, третья – направление круга, проходящего по диагонали через ширину зодиака: но это среднее было более наклонным для круга движения луны, чем для круга движения солнца. Движение планет, однако, происходит в четырех сферах, первая и вторая из которых совпадают с движением Солнца и Луны (ибо сфера неподвижных звезд ведет их всех по кругу, и точно так же подчиненная ей сфера, а именно та, что движется по центральной линии зодиака, является общей для всех планет); полюса всех планет третьей сферы находились на центральной линии зодиака, а орбита четвертой проходила по кругу, наклонному к этой центральной линии; полюса третьей сферы были особыми для каждой из остальных планет, но одинаковыми для Венеры и Меркурия. О положении сфер, то есть о порядке их расстояний, Каллипп рассуждал так же, как Евдокс: относительно числа сфер он давал одинаковое число Юпитеру и Сатурну, но к Солнцу и Луне, по его мнению, следовало добавить еще две, если хотели объяснить явления, и точно так же еще по одной к каждой из других планет. Кроме того, если астрономический состав всех сфер должен был соответствовать небесным явлениям, необходимо было предположить, что для каждой планеты существует число других сфер, на одну меньше первой, которые должны были повернуть первую сферу подчиненной звезды и вернуть ее в правильное положение: только при таком предположении орбиты планет могли производить все явления. Теперь, поскольку сфер, по которым движется орбита, частично 8, частично 25, и из них только те, в которых движется самая нижняя, не нуждаются в ретроградации, будет 6 сфер ретроградации в отношении первых двух планет и 16 в отношении четырех последующих, и таким образом число всех сфер, как тех, которые осуществляют орбиту, так и тех, которые ее ретроградируют, возрастает до 55. Если, однако, не добавлять вышеупомянутые движения Луны и Солнца, то общее число сфер составит.
Комментарии:
С.В. Месяц (Россия): Месяц, как специалист по античной науке, поясняет, что Аристотель излагает здесь теорию гомоцентрических сфер Евдокса Книдского, усовершенствованную Каллиппом. Это – математическая модель, призванная объяснить сложные видимые движения планет (попятные движения, изменения скорости) через комбинацию равномерных круговых движений. Каждой сфере, отвечающей за отдельное движение, должен, по Аристотелю, соответствовать свой неподвижный двигатель (ум). Таким образом, метафизик зависит от данных астрономии: число богов = числу сфер, необходимых для объяснения небесных явлений.
Источник: Аристотель. Физика. Кн. I-IV. / Пер. и комм. С.В. Месяц. – М.: ГЛК, 2017. – Комментарии к кн. VIII.
Зарубежный специалист (Г.Е.Р. Ллойд): Ллойд в работе «Методы и проблемы греческой науки» анализирует этот пассаж как пример взаимодействия философии и науки. Аристотель не является астрономом; он заимствует модель у специалистов. Однако он онтологизирует математическую модель: для него сферы – не абстракции, а реальные физические, хотя и эфирные, образования, а значит, требующие реальных двигателей. Это характерная черта аристотелевского подхода.
Источник: Lloyd G.E.R. Methods and Problems in Greek Science. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – P. 110-115.
5. Вывод о числе перводвигателей и единстве неба.
Предполагая теперь, что число кругов столь велико, мы можем с вероятностью предположить, что существует столько же субстанций и неподвижных, но чувственно ощутимых принципов. Сказать и доказать что-либо определенное по этому поводу – дело сильнейших. Поскольку теперь невозможно существование какого-либо движения, которое не совпадало бы с движением небесного тела, и поскольку, кроме того, следует полагать, что каждая свободная от страданий и самосуществующая природа и субстанция достигла наилучшей цели, никакое другое существо не может существовать помимо этих существ, но число субстанций должно быть столь же велико. Если бы еще существовали другие, то они должны были бы двигаться, будучи сами концами движения, поскольку невозможно существование других движений, кроме упомянутых. Что это так, можно заключить из того, что находится в движении: ведь если все, что движется, движется только потому, что есть движущаяся вещь, и если каждое движение должно иметь движущуюся вещь в качестве своего носителя, то ни одно движение не может существовать ради самого себя или ради другого движения, но существует ради субстрата, небесных тел. Ведь если бы движение существовало ради движения, то последнее должно было бы существовать и ради другого: а поскольку продолжение в бесконечность невозможно, то целью всякого движения должно быть одно из божественных тел, обращающихся на небе. Если бы было несколько небес, как несколько людей, то у них был бы один принцип в роде, много принципов в числе. Только то, что много по числу, имеет материю. Понятие одно и то же для многих вещей, например, для человека: Сократ, с другой стороны, один. Высшая форма не имеет материи: она – совершенная реальность. Единица в понятии и числе – это, следовательно, первая движущаяся вещь, которая сама по себе неподвижна, и поэтому то, что всегда и постоянно движется, также является только Единицей: следовательно, существует только одно Небо.
Комментарии:
Э.В. Вольф (Россия): Вольф обращает внимание на два ключевых вывода, которые делает Аристотель:
Множественность двигателей: Их число вероятностно определяется данными астрономии (~55).
Единство космоса: Несмотря на множественность двигателей, сам космос един. Не может быть многих миров («небес»), подобно тому как есть много людей. Высший Перводвигатель един и уникален. Аргумент: множественность всегда обусловлена материей (у Сократа и Каллия разная материя, но одна форма «человек»). Но высшие сущности бестелесны и нематериальны, а значит, в каждом виде таких сущностей может быть только одна индивидуальность. Поэтому есть только один Высший Ум и только один Космос – его единственное возможное воплощение и следствие.
Источник: Вольф Э.В. Философия Аристотеля. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. – С. 150-155.
Зарубежный специалист (Вернер Йегер): Йегер видит в этом заключении синтез платоновского и досократовского монизма с аристотелевским эмпиризмом. Космос Аристотеля иерархически упорядочен и множественен, но в своем единстве и замкнутости он так же един и совершенен, как и космос Парменида или Платона. Множественность неподвижных двигателей не нарушает единства миропорядка, так как все они суть умы, устремленные к единому высшему Благу.
Источник: Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. 2nd ed. – Oxford: Clarendon Press, 1948. – P. 400-402.
6. Мифологическая традиция как отражение древней мудрости.
От древних и из глубокой древности до наших потомков дошло в виде мифа, что звезды – это боги и что божественное охватывает всю природу. Остальное – мифические добавления для убеждения толпы, ради законодательства и удобства. А именно, что боги человекоподобны и похожи на другие существа, и прочие подобные вещи. Если мы теперь исключим последнее и будем придерживаться только первого, того мнения, что первые субстанции – это боги, то нам, вероятно, придется считать эту доктрину божественным откровением. А поскольку каждое искусство и философия, предположительно, не раз были открыты, насколько это было возможно, а затем вновь утеряны, эти взгляды вполне могут оказаться руинами древней утерянной мудрости, дошедшей до наших дней. Только в этом отношении мы можем понять идеи наших отцов и традиции доисторических времен.
Комментарии:
А.Ф. Лосев (СССР): Лосев придает этому заключению огромное значение. Аристотель не отвергает традиционную религию, а дает ей аллегорическое и философское истолкование (т.н. «аллегорезис»). За мифами о богах-планетах скрывается глубокое прозрение в устройство универсума. Философия, таким образом, является не ниспровергателем, а преемником и раскрывателем древней мудрости, выраженной в мифологической форме. Эта идея о «философской теологии» оказала огромное влияние на последующую европейскую мысль.
Источник: Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.: Искусство, 1975. – С. 115-120.
Зарубежный специалист (Пьер Обенк): Французский исследователь П. Обенк видит в этом пассаже проявление своеобразного философского пиетета Аристотеля. Завершая свой труд, он стремится показать, что его рациональная система не противоречит традиции, а находит в ней смутное, но верное отражение истины. Это также теория познания: истина открывалась людям неоднократно, но лишь философия может дать ей адекватное понятийное выражение и доказательство.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.