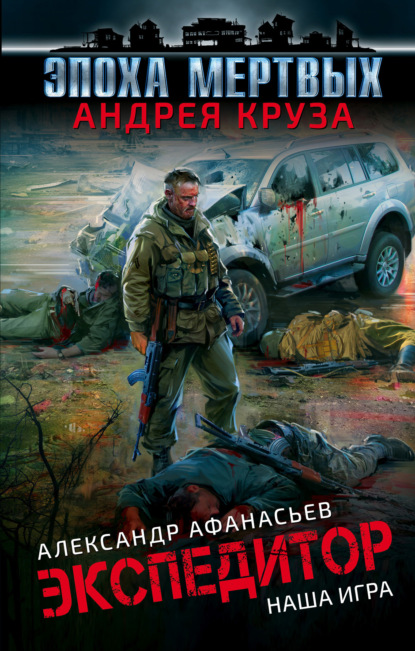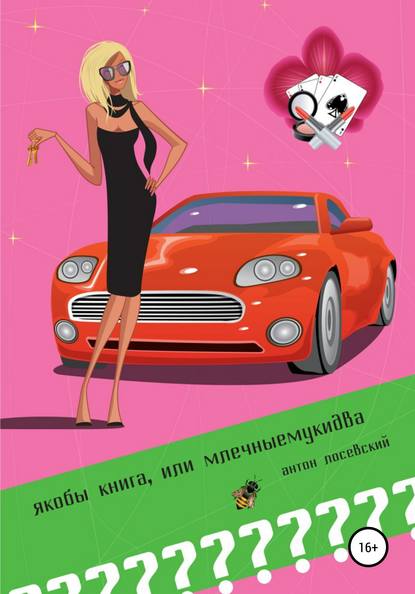Метафизика Аристотеля. Первая книга
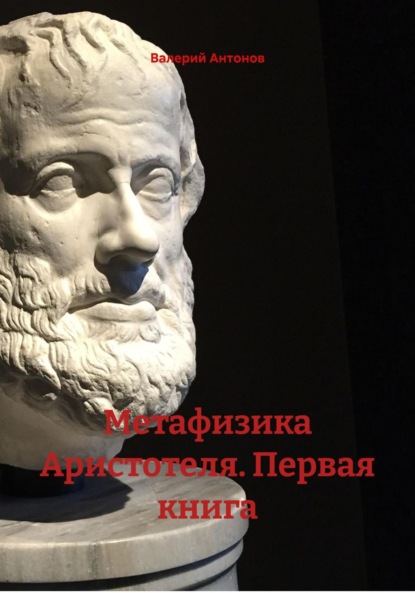
- -
- 100%
- +

Книга Α «Метафизики» – это не просто введение, а своего рода интеллектуальная карта всей досократовской и платоновской философии, переосмысленная и превзойденная через призму оригинального аристотелевского учения о четырех причинах. Она устанавливает высший стандарт знания – необходимость постижения первых начал – и намечает путь к его достижению, который станет содержанием одной из самых влиятельных философских работ в истории человеческой мысли.
Содержание первой книги.
1) Философия (метафизика) – это наука о причинах вещей, наука об определенных причинах и принципах, гл. 1.
2) Это наука о конечных причинах и принципах, τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν θεωρητική – Cap. 2, 1—14. их общий характер 2, 15—27.
3) Указание на четыре конечные причины или принципа: субстанция, форма, движущая причина и конечная причина – Гл. 3, 1. Под эти четыре принципа могут быть подведены принципы всех ранних философов следующим образом:
a. Материальный принцип, ἀρχὴ ἐν ὕλης εἴδει, был у древнейших натурфилософов, Фалеса и др. Гл. 3, 4—14.
b. Отсюда переходят к предположению о движущейся причине, ἀρχὴ τῆς κινήσεως, точке зрения, которая у Анаксагора привела к постулированию мирообразующего νοῦς, у Эмпедокла – к разложению движущейся причины на две противоположные силы, Гл. 3, 15—4, 16.
c. Пифагорейцы и элеаты отчасти не относятся сюда, отчасти их отношение к излагаемым принципам недостаточно ясно, гл. 5, 1—25. Краткая рекапитуляция 5, 26—31.
d. Платон и его принципы: он выдвинул принцип формы, τί ἐςι (6, 15.7, 5), гл. 6.
e. Ретроспектива: Гл. 7 То, что предыдущие философы оставили нам в качестве философского достижения, есть, таким образом, 1) принцип субстанции, 2) принцип движущейся причины, 3) приблизительно еще принцип формальной причины; меньше всего четвертый принцип, принцип конечной причины, вступил в свои права вместе с ними.
4) Критика предшествующих философов, гл. 8—10. а) Древнейшие физиологи, принимавшие только один (материальный) принцип (8, 1—10); б) Эмпедокл и Анаксагор, принимавшие несколько (материальных) принципов (8, 14—20); c) (нематериальный) пифагорейский принцип числа (8, 21—31); c) платоновское учение об идеях и числах (с. 9). d) Подведение итогов: вся философия до сих пор носит неразвитый, неполноценный характер.
О содержании подробнее
Книга I (Α), Глава 1
1) Философия (метафизика) – это наука о причинах вещей, наука об определенных причинах и принципах.
Комментарий Альберта Швеглера (Albert Schwegler): Швеглер в своем фундаментальном комментарии (1847) подчеркивает, что Аристотель с самого начала определяет философию не через ее предмет, а через ее метод и цель – исследование первопричин (ἀρχαὶ) и высших начал (αἰτίαι). Это то, что отличает ее от всех других наук, которые принимают свои принципы как данность и не исследуют их. Философия есть наука, стремящаяся к знанию ради самого знания, а не ради практической пользы.
Комментарий Вильгельма Хайзе (Wilhelm Heise) и других зарубежных исследователей: Современные комментаторы, такие как Дэвид Росс (W. D. Ross) и Джонатан Барнс (Jonathan Barnes), акцентируют, что определение философии как науки о причинах (αἰτίαι) непосредственно связывает ее с физикой («Физика», II, 3), где Аристотель подробно разбирает четыре причины: материальную, формальную, движущую и целевую. Однако в «Метафизике» акцент смещается на поиск первых, высших и наиболее универсальных причин, которые являются причиной бытия как бытия.
Комментарий А. Ф. Лосева: Алексей Фёдорович Лосев в своих работах (напр., «История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика») видит в этом определении установку на систематизацию всего предшествующего философского знания. Для него аристотелевская метафизика – это «логический синтез всех основных проблем досократовской и платонической философии», возведенный в ранг строгой науки о первоначалах.
Комментарий Д. В. Бугая: Дмитрий Владимирович Бугай, исследуя аристотелевское учение о причинах, указывает, что «наука об определенных причинах и принципах» – это не просто перечисление, но их иерархическое выстраивание. Высшей причиной оказывается целевая (τέλος), так как форма у Аристотеля действует ради некой цели. Таким образом, метафизика с самого начала нацелена на обнаружение высшего Блага как конечной причины мироздания.
Текст на древнегреческом: πᾶσαι μὲν οὖν αἰσθάνεσθαι δοκοῦσιν αὑταῖς αἱ τέχναι βελτίους γίγνεσθαι· ὅτι γὰρ αἴτιαι αὗται τοῖς ἐπισταμένοις αὐτὰς καὶ σοφοῖς, ταύτῃ τιμίαι. (980b 23—25)
[980b23—25] «Все искусства [техники], по-видимому, стремятся к тому, чтобы стать более совершенными; ибо они ценны для знающих их и мудрых именно потому, что являются причинами [αἴτιαι]». Аристотель начинает с общепризнанного мнения (эндо́кс), что знание ценно, когда оно раскрывает причины явлений. Это служит основанием для определения высшего знания – мудрости (σοφία) как знания о первопричинах.
ὅλως τε ὁ τὰ αἴτια γνωρίζων ἕκαστα σοφώτερος τῶν αἰσθητικῶν ἐστίν. (981a 28—29)
[981a28—29] «Вообще, тот, кто знает причины [αἴτια] каждого [явления], мудрее тех, кто [обладает лишь] чувственным восприятием». Здесь проводится ключевое различие между знанием «что» (ὅτι) и знанием «почему» (διότι). Философия есть знание «почему», то есть знание причин.
ἡ μὲν οὖν πρώτη φιλοσοφία περὶ τῶν πρώτων αἰτίων θεωρητική. (Met. VI, 1, 1026a 16)
[Цитируется по другой книге, но раскрывает смысл] «Первая философия есть умозрительная [наука] о первых причинах». Это более позднее и точное определение Аристотелем предмета метафизики, напрямую вытекающее из тезисов первой главы.
Библиографический список
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 63–368.
Schwegler, Albert. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847. Bd. I–IV.
Ross, W. D. Aristotle’s Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I–II. Oxford: Clarendon Press, 1924.
Barnes, Jonathan (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. – 880 с.
Бугай, Д. В. Учение Аристотеля о причинах в «Метафизике» и «Физике» // Философский журнал. 2012. №2 (9). С. 5–20.
Heise, Wilhelm. Aristoteles’ Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes. Leipzig: Verlag von Veit & Comp., 1878.
Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 59–262. (Для сопоставления учения о четырех причинах).
Метафизика Аристотеля. Книга I (Α). Глава 2.
2) Это наука о конечных причинах и принципах, их общий характер.
Редактированный русский текст:
*Искомой нами наукой является познание первых начал и причин [1]. Именно к ним стремится разум, когда ищет ответ на вопрос «почему?» относительно той или иной вещи [2]. А указать «почему» чего-либо – значит назвать его первопричину [3]. Ясно, что эти начала должны быть наиболее достоверными и познаваемыми по своей природе, ибо именно через них и на их основе познается все остальное, а не наоборот [4].*
Древнегреческий оригинал:
ἡ μὲν οὖν ζητουμένη ἐπιστήμη τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν ἐστὶ θεωρητική. [1] διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, [2] ἀρχὴν δὲ λαβὸν τὸ θαυμάζειν ἐπίστασθαι ἐπιζητοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ὡς ὁδῷ χρώμενοι… [3] σημεῖον δ᾽ ἡ τῶν φιλαιτίων πείρα: ἱκανῶς γὰρ ἔχειν δοκοῦσι τοῖς οὕτως ἐπισταμένοις. [4] ὧν ἕνεκα καὶ τοῦ εἰδότος χάριν μάλιστ᾽ ἂν εἴη κτῆσις αὕτη τῆς ἐπιστήμης.
Комментарий:
[1] «первых начал и причин» (τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν). Аристотель сразу задает онтологический и эпистемологический статус метафизики. Как отмечает А. Швеглер, термин «ἀρχή» у Аристотеля многозначен: это и «начало» во временном смысле, и «первооснова» (как у досократиков), и «первый принцип» умозрения, и, наконец, «руководящее начало» или «власть» (Schwegler. Die Metaphysik des Aristoteles. Bd. I. S. 45). А.Ф. Лосев подчеркивает, что «причина» (αἰτία) у Аристотеля – не просто повод, а «существенное основание бытия вещи» (Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 28). Таким образом, метафизика есть наука о высших, универсальных основаниях всего сущего.
[2] «вопрос “почему?”» (διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν). Удивление (θαυμάζειν) как начало философии – ключевой тезис. В. Ягер (W. Jaeger) в своей работе «Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung» видит в этом указание на платоновские корни аристотелевской мысли, где путь к знанию начинается с изумления перед неизвестным. Д.В. Бугай акцентирует, что для Аристотеля это не психологическое, а гносеологическое удивление – осознание незнания, которое и есть начало поиска знания (Бугай Д.В. К вопросу о начале философии: Аристотель и его современники // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 12).
[3] «указать “почему”… – значит назвать его первопричину». Здесь Аристотель готовит почву для своего учения о четырех причинах (материальной, формальной, движущей и целевой), которое будет детально развернуто далее. Швеглер замечает, что аристотелевское понятие причины гораздо шире современного механистического и включает в себя любой ответ на вопрос «διὰ τί» (почему?), то есть любое объяснение (Schwegler. Bd. I. S. 48).
[4] «эти начала должны быть наиболее достоверными и познаваемыми по своей природе». Это утверждение является центральным для аристотелевской апофантики (учения о высказывании). Лосев комментирует: «Первые начала познаются не через что-то другое, но сами из себя, и в них уже нет разделения на субъект и предикат… они есть чистая и абсолютная самоочевидность» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 112). М. Хайдеггер в лекциях по Аристотелю (Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles) видел в этом пункте определение бытия как присутствия (ousia), которое открывается непосредственно.
Библиографический список
Источники:
Aristotelis Metaphysica. Recognovit W. Christ. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig, 1886.
Аристотель. Метафизика / Пер. и комм. А.В. Кубицкого // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 63–368.
Основная комментаторская литература:
Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Vier Bände. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848.
Bonitz, H. Aristoteles' Metaphysik. Zweiter Band: Kommentar. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz, 1890.
Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I–II. Oxford: Clarendon Press, 1924.
Jaeger, W. Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin: Weidmann, 1923.
Reale, G. Aristotle Metafisica. Saggio introduttivo, testo Greco con traduzione a fronte e commentario. Vol. I–III. Milano: Vita e Pensiero, 1993.
Лосев А.Ф. История антической эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975.
Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля (комментарий к I книге «Метафизики») // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 15–60.
Бугай Д.В. К вопросу о начале философии: Аристотель и его современники // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 10–18.
Дополнительная литература:
Heidegger, M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation) // Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Bd. 6. 1989. S. 235–274.
Aubenque, P. Le problème de l'être chez Aristote. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
Метафизика. Книга I. Глава 3.
3) Указание на четыре конечные причины или принципа: субстанция, форма, движущая причина и конечная причина – Гл. 3, 1. Под эти четыре принципа могут быть подведены принципы всех ранних философов следующим образом:
[Аристотель, 984a16-18]
«Так как очевидно, что должно получить знание о первоначальных причинах (ибо мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина), причины же различаются четырьмя способами…» [1]
Комментарий (Альберт Швеглер): Швеглер в своем комментарии (Bd. I, S. 29) подчеркивает, что Аристотель здесь впервые эксплицитно формулирует свое учение о четырех причинах (четырех «почему») как методологический ключ к анализу всей предшествующей философии. Это не просто перечисление, а система категорий, позволяющая упорядочить и критически оценить взгляды предшественников, показав, какую из причин каждый из них открыл, а какую упустил из виду.
Комментарий (А.Ф. Лосев): Лосев отмечает, что учение о четырех причинах является «основной структурой всякого бытия и всякого мышления о бытии» у Аристотеля. Выделение именно этих четырех причин – результат гигантской работы греческой мысли, которую Аристотель систематизирует. «Материя, форма, цель и движущая причина – вот что, по Аристотелю, исчерпывает собою все возможные типы причинности» [2].
a. Материальный принцип, ἀρχὴ ἐν ὕλης εἴδει, был у древнейших натурфилософов, Фалеса и др. Гл. 3, 4—14., 983b6-18.
«Большинство первых философов полагали начала, относящиеся к виду материи, единственными началами всех вещей… Фалес, родоначальник такой философии, считает [началом] воду…»
Комментарий (В.П. Карпов): Русский переводчик и комментатор Аристотеля В.П. Карпов в своей работе «Метафизика Аристотеля» (СПб., 1890) указывает, что «материальное начало» (ἀρχὴ ἐν ὕλης εἴδει) у досократиков – это не просто вещество, а первооснова (στοιχεῖον), «из которого все происходит и во что все ultimately разрешается». Их заслуга в том, что они впервые поставили вопрос о единой субстратной основе мира, но их ошибка в сведении всего многообразия бытия к одной лишь материальной причине [3].
Комментарий (W.D. Ross): Сэр Дэвид Росс в своем фундаментальном комментарии (Aristotle's Metaphysics, vol. I, p. 87) уточняет, что Аристотель не приписывает ионийским философам осознанного учения о «материи» в его собственном, техническом смысле. Скорее, они искали «первовещество» (πρώτη ὕλη), из которого все состоит. Их принцип – это «φύσις, но не в смысле природы как процесса, а в смысле исходного материала» [4].
b. Отсюда переходят к предположению о движущей причине, ἀρχὴ τῆς κινήσεως, точке зрения, которая у Анаксагора привела к постулированию мирообразующего νοῦς, у Эмпедокла – к разложению движущейся причины на две противоположные силы, Гл. 3, 15—4, 16.
[Аристотель, 984b8-22]
«Когда же такие [начала] были установлены, сама [действительность] указала путь и принудила их к дальнейшим изысканиям. В самом деле, пусть всякое возникновение и уничтожение происходит из того или иного элемента или из нескольких – почему же это происходит? Ведь не оттого, что substrate подвергается воздействию!.. Таким образом, по крайней мере Эмпедокл прибегает к причине в большей мере, нежели предыдущие [философы], и прибегает к ней, хотя и не последовательно… Далее, Анаксагор принимает ум (νοῦς) в качестве принципа… как для всего прочего, так и для движения».
Комментарий (Альберт Швеглер): Швеглер (Bd. I, S. 33) видит в этом переходе внутреннюю логику развития философской мысли. Философы инстинктивно ощутили недостаточность материального принципа для объяснения изменения и движения. Эмпедокл, вводя Любовь (Φιλία) и Вражду (Νεῖκος), пытается объяснить движение через имманентные миру силы, но делает это механически. Анаксагор же, постулируя Ум (Νοῦς) как разумную, целеполагающую силу, впервые приближается к понятию действующей причины в аристотелевском смысле, хотя и применяет ее спорадически [5].
Комментарий (Д.В. Бугай): Современный российский исследователь Д.В. Бугай в статье «Учение Аристотеля о причинах и его критика предшественников» («ΣΧΟΛΗ», 2011) акцентирует, что Аристотель ценит Анаксагора именно за попытку ввести разумное, нематериальное начало как источник движения и порядка. Однако он критикует его за то, что тот использует Ум как «deus ex machina» лишь для объяснения первоначального толчка, а затем снова прибегает к чисто материальным причинам. Это, по Аристотелю, половинчатое решение [6].
Комментарий (H. Bonitz): Герман Бониц в своем «Index Aristotelicus» (s.v. ἀρχή) и комментариях отмечает, что различение между материальной и движущей причиной стало решающим шагом. Досократики, за исключением, возможно, атомистов (у которых движение изначально присуще атомам), не могли объяснить, откуда берется движение в инертной материи. Введение внешнего двигателя (Ум) или имманентных сил (Любовь/Вражда) было попыткой решить эту апорию [7].
Библиографический список
Аристотель. Метафизика. Пер. А.В. Кубицкого (и др.) // Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 65–66. (Или любое другое издание по стандартной пагинации Беккера).
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. С. 58.
Карпов В.П. Метафизика Аристотеля. СПб., 1890. С. 45–47.
Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 87.
Schwegler, Albert. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Erster Band. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847. S. 33.
Бугай Д.В. Учение Аристотеля о причинах и его критика предшественников // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 2011. Т. 5. Вып. 2. С. 287–301.
Bonitz, Hermann. Index Aristotelicus. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1955 (перепечатка изд. 1870 г.). (А также его комментарии в издании «Aristotelis Metaphysica»).
Аристотель. Метафизика. Книга I (Альфа). Глава 5.
c. [Пифагорейцы и элеаты] отчасти не относятся сюда, отчасти их отношение к излагаемым принципам недостаточно ясно (гл. 5, 1—25)[1].
Οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τῶν ἀρχῶν τὰς μὲν δύο ποιοῦσιν, κατὰ δέ γε τὸν τρόπον τοῦτον ἴδιον καὶ οὐκ εὔλογον, ὅτι τὰ μὲν εἶδος τὰ δὲ στέρησιν οὐκ ᾤοντο δεῖν λέγειν οὐθενὸς τῶν ὄντων, δῆλον δὲ ἐκ τῆς πορείας. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς ὡς ὕλης τὰ ὄντα τὰ νοητὰ ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἓν τὸ εἶναι λέγουσιν αὐτῶν ἀρχὴν εἶναι, καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν. (986a 1—986a 6)
[1] Аристотель указывает на фундаментальное различие между его собственным учением о четырех причинах и подходом пифагорейцев. Последние, хотя и постулируют две начала (Предел и Беспредельное, или Единое и Неопределенную Двоицу), не отождествляют их с формой (εἶδος) и лишенностью (στέρησις) в аристотелевском смысле. Их система, как отмечает Швеглер, является скорее математической, а не физической или онтологической в полном смысле слова. Они выводят сущее из Единого как из материи (ὡς ὕλης), что для Аристотеля неприемлемо, так как Единое у него само по себе есть форма и сущность.
Краткая рекапитуляция (5, 26—31)[2].
Οὗτοι μὲν οὖν δύο τρόποι λέγονται, ἐξ ὧν ἀρχὰς ἔχειν ἐνδέχεται φάναι, καὶ ἄλλος τρόπος τριτός, ὃν λέγουσιν Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ ἄλλος, ὃν Ἀναξαγόρας, ὁ μὲν ἓν καὶ πολλὰ ποιῶν, ὁ δὲ πολλὰ καὶ ἓν τοὺς ἑνὸς κρείττονας. (986a 25—986a 30)
[2] В этом заключительном пассаже главы Аристотель подводит краткий итог рассмотренных учений о началах. Он классифицирует их по «способам» (τρόποι):
Материалисты (Ионийские физики) – ищут начало в материальной причине.
Пифагорейцы – ищут начало в формальной и математической причине (хотя и несовершенно).
Гераклит и Эмпедокл – вводят начало движения (движущую причину) через Логос/Любовь и Вражду.
Анаксагор – с его Умом (νοῦς) наиболее явно подходит к понятию движущей причины, отделенной от материи.
Аристотель создает своего рода лестницу учений, где каждое последующее приближается к его собственной четырехпринципной модели, но ни одно не достигает ее полноты. Как отмечает Д.В. Бугай, этот пассаж демонстрирует аристотелевский историко-философский метод: критика предшественников служит не отрицанию, а выявлению элементов истины, которые находят свое место и завершение в его собственной системе.
Библиографический список комментариев:
Schwegler, Albert. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847—1848. (К т. 2, с. 45—47: Анализ пифагорейского учения о началах как математических, а не физических, и критика Аристотелем их подхода к Единому).
Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1924. (P. 135—138: Подробный филологический и философский комментарий к 986a, разбор терминов εἶδος и στέρησις применительно к пифагорейцам, анализ итоговой классификации учений).
Лосев, А.Ф. «Критика платонизма у Аристотеля (в связи с «Метафизикой» I и XIII глав.)» // История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: «Искусство», 1975. (С. 67—72: Оценка критики Аристотелем досократиков как необходимого этапа для обоснования собственного учения о причине и сущности).
Бугай, Д.В. «Учение Аристотеля о началах в первой книге «Метафизики»» // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 2007. Т. 1, № 1. (С. 125—140: Анализ структуры и метода I книги «Метафизики», интерпретация рекапитуляции в 986a 26—31 как систематизации предшественников по типам причинности).
Reale, Giovanni. The Concept of First Philosophy and the Unity of the Metaphysics of Aristotle. Translated by John R. Catan. Albany: State University of New York Press, 1980. (P. 50—55: Объяснение того, как исторический обзор в Книге I служит основанием для постановки вопроса о сущем как сущем и высших началах бытия).
Метафизика. Книга I. Глава 6.
d. Платон и его принципы: он выдвинул принцип формы, τί ἐστι (6, 15.7, 5), гл. 6.
Отредактированный текст Аристотеля (пер. А.В. Кубицкого, модифицирован для точности):
После изложенных учений появилось учение Платона, которое в большинстве своем следует за пифагорейцами, но имеет и нечто своеобразное, сравнительно с философией италийцев. Примкнув с юных лет сначала к Кратилу и гераклитовским воззрениям (согласно которым все чувственно воспринимаемое вечно течет, а знания о нем нет), Платон и позже держался таких взглядов. А так как Сократ занимался вопросами нравственности, но не природой в целом, и в нравственных искал общее и первый обратил мысль к определениям, то Платон, восприняв это, признал, что определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то иному: ибо невозможно, чтобы общее определение было дано какой-либо из чувственных вещей, поскольку они изменчивы. Это иное он назвал идеями (εἴδη), а чувственные вещи, утверждал он, существуют apart from них (παρά) и именуются сообразно с ними, ибо [множественное] одноименное [сущим] идеям существует благодаря причастности (κατὰ μέθεξιν) к ним.
Оригинальный текст на древнегреческом (Arist. Met. 987a29-987b10):
Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Πλάτωνος ἐπῆλθε διδασκαλία, τὰ μὲν πολλὰ τούτοις ἀκολουθοῦσα, τινα δὲ καὶ ἰδία ἔχουσα παρά τὴν τῶν Ἰταλικῶν φιλοσοφίαν. ἐκ νέου γὰρ συνήθης γενόμενος πρῶτον μὲν Κρατύλῳ καὶ ταῖς Ἡρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπασῶν τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεοντῶν καὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης, ταῦτα μὲν καὶ ὕστερον οὕτως ὑπέλαβεν. Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως οὐθέν, ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθόλου ζητοῦντος καὶ περὶ ὁρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν, ἐκεῖνος ἀποδεξάμενος διὰ τοῦτο ὡς περὶ ἑτέρων τοῦτο γιγνόμενων καὶ οὐ τῶν αἰσθητῶν, τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσεν· αἰσθητὰ γὰρ εἶναι πάντα τὰ καθ’ ἕκαστα καὶ παρὰ ταῦτα τὰ ὁμώνυμα, τὰ γὰρ πολλὰ κατὰ μέθεξιν τῶν εἰδῶν ὀνομάζεσθαι.
Комментарий к 987a29-987b10:
[987a29] Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Πλάτωνος ἐπῆλθε διδασκαλία…
А. Швеглер (A. Schwegler): Аристотель здесь не просто перечисляет философов, а выстраивает диалектическую линию развития мысли. Учение Платона представлено как синтез предшествующих учений: гераклитовского потока и пифагорейского учения о числах и бестелесном, который стал возможен благодаря методу Сократа. Швеглер подчеркивает, что Аристотель видит в Платоне не создателя совершенно новой системы, а мыслителя, который систематизировал и трансформировал уже существующие концепции (Die Metaphysik des Aristoteles, Bd. III, S. 45).