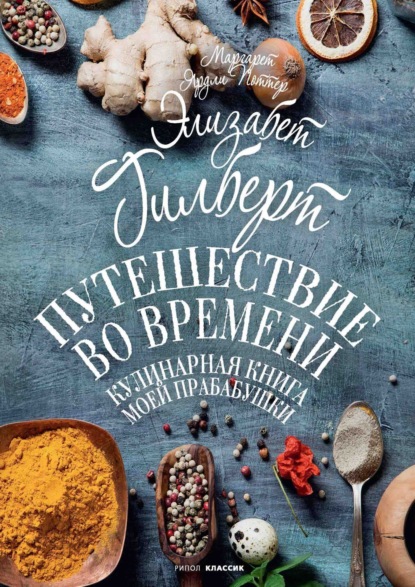Метафизика Аристотеля. Первая книга
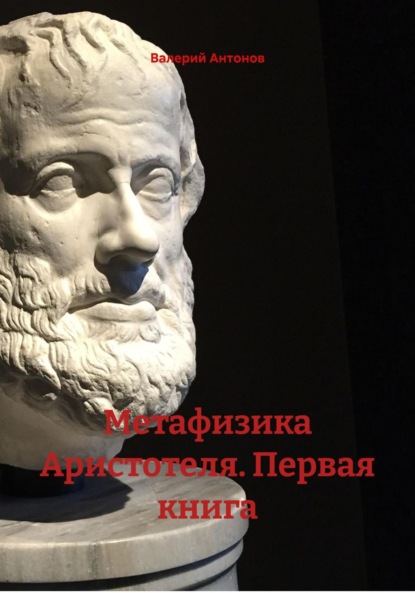
- -
- 100%
- +
У. Д. Росс (W. D. Ross): Росс акцентирует исторический контекст: Аристотель дает нам бесценное, хотя и критическое, свидетельство о genesis платоновской теории идей. Упоминание о Кратиле и Гераклите особенно важно, так как оно показывает онтологический импульс теории: поиск неизменного объекта для знания в противовес изменчивому миру чувств (Aristotle's Metaphysics, vol. I, p. 164).
А. Ф. Лосев: Лосев видит в этом пассаже глубокое понимание Аристотелем историко-философского процесса. "Аристотель здесь не историк, а диалектик. Он показывает, как необходимость логического развития философских проблем приводит к платоновскому учению об идеях". Лосев также отмечает, что характеристика Платона как последователя пифагорейцев и гераклитовцев является "гениально-меткой" (История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика, С. 44-45).
[987b1] Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου… περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως οὐθέν…
А. Швеглер: Аристотель проводит четкое разграничение: Сократ интересовался только этическими дефинициями, Платон же онтологизировал его метод, распространив поиск общего (τὸ καθόλου) на всю область сущего. Таким образом, сократовское «что есть?» (τί ἐστι) стало платоновской «идеей» (ἰδέα) или «формой» (εἶδος) (Die Metaphysik des Aristoteles, Bd. III, S. 48).
Д. В. Бугай: Бугай соглашается с этой трактовкой, уточняя, что "Сократ искал логические определения добродетелей, в то время как Платон придал этим определениям онтологический статус, сделав их самостоятельными сущностями, существующими отдельно от мира вещей". Это и есть ключевой момент расхождения Аристотеля с его учителем (Учение Аристотеля о сущности, С. 78).
[987b6] ἐκεῖνος ἀποδεξάμενος διὰ τοῦτο ὡς περὶ ἑτέρων τοῦτο γιγνόμενων καὶ οὐ τῶν αἰσθητῶν, τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσεν…
А. Швеглер: Фраза «ὡς πерὶ ἑτέρων» («как о чем-то другом») является ключевой для понимания аристотелевской критики. Платон, по мнению Стагирита, совершил ошибку, hypostasizing логические универсалии в отдельные онтологические сущности. Швеглер переводит «ἰδέας» как «Formen» (формы) или «Ideen» (идеи), подчеркивая их роль как парадигм (Die Metaphysik des Aristoteles, Bd. III, S. 50).
Г. Бонитц (H. Bonitz): В своем знаменитом комментарии Бонниц подчеркивает, что термин «ἰδέα» у Платона изначально несет смысл «вида», «формы» как того, что делает вещь тем, что она есть. Однако, отделив эту форму от вещи, Платон, по мнению Аристотеля, создал непреодолимые трудности для объяснения связи между миром идей и миром вещей (Aristoteles Metaphysica, Commentarius, p. 69).
А. Ф. Лосев: Лосев, будучи крупнейшим специалистом по Платону, дает более nuanced трактовку: "Аристотель абсолютно прав в указании на то, что теория идей Платона есть результат соединения онтологизма досократиков с логическим и этическим поиском универсалий у Сократа. Однако Аристотель часто критикует не самого Платона, а вульгарно-догматическое истолкование его теории". Лосев также указывает, что у самого Платона в поздних диалогах («Парменид», «Софист») содержится мощная самокритика теории идей (Очерки античного символизма и мифологии, Т. I, С. 512).
[987b9] τὰ γὰρ πολλὰ κατὰ μέθεξιν τῶν εἰδῶν ὀνομάζεσθαι.
У. Д. Росс: Росс отмечает, что Аристотель здесь излагает теорию причастности (μέθεξις) в ее самой простой и, с его точки зрения, самой проблематичной форме. Эта формулировка вызывает главный вопрос: что именно такое причастность? Аристотель будет неоднократно возвращаться к этой проблеме (например, в Met. I, 9), показывая, что метафора «причастности» не дает реального объяснения (Aristotle's Metaphysics, vol. I, p. 165).
Д. В. Бугай: "Концепция «причастности» (μέθεξις), – пишет Бугай, – является для Аристотеля наглядным примером пустого слова (κενὸν λέγεσθαι), которое не несет explanatory силы. Она не объясняет, каким образом неизменная и вечная идея может быть причиной существования и свойств изменчивой чувственной вещи. Это и есть основной объект критики Аристотеля" (Учение Аристотеля о сущности, С. 82).
Библиографический список
Первоисточники:
Aristotle. Metaphysics. Edited by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1924. (Критическое издание греческого текста).
Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. Ред. В. Ф. Асмус. Пер. А. В. Кубицкого. М.: Мысль, 1975. С. 63–368.
Комментарии и монографии:
Bonitz, H. Aristoteles Metaphysica. Commentarius. Bonn: Marcus, 1848–1849 (Reprint: Hildesheim: Olms, 1960).
Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924.
Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. 4 Bände. Tübingen: L. F. Fues, 1847–1848.
Бугай Д. В. Учение Аристотеля о сущности. М.: Издательство МГУ, 2000.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Т. I. М.: Мысль, 1993.
Статьи в журналах:
(В качестве примера) Cleary, J. J. "On the Terminology of 'Abstraction' in Aristotle". Phronesis, Vol. 30, No. 1 (1985), pp. 13–45. (Статья рассматривает, как Аристотель противопоставляет свой метод абстракции платоновской теории отдельно существующих идей).
Ретроспектива: Глава 7.
e. Ретроспектива: Гл. 7. То, что предыдущие философы оставили нам в качестве философского достижения, есть, таким образом, 1) принцип субстанции, 2) принцип движущейся причины, 3) приблизительно еще принцип формальной причины; меньше всего четвертый принцип, принцип конечной причины, вступил в свои права вместе с ними.
Комментарий:
ὅτι μὲν οὖν τἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν αἴτιόν ἐστιν ὡς οὗ ἕνεκα τοῖς οὖσι, φανερὸν μάλιστα μὲν ἐκ τῆς τάξεως τῶν ὅλων· ἀλλ' ὅμως οὕτως ὡς ἐνδεχόμενον ἡμῖν δηλωθῆναι παρείληπται, καὶ ὅτι παρὰ τοὺς πρότερον ἐληλυθότας εἰς τὴν αἰτίαν ζήτησιν ὀρθῶς μὲν οὖν καὶ οὗτοι λέγουσιν, οὐ μὴν σαφῶς γε.
(«Что благо и прекрасное суть причины как то, ради чего [существует] сущее, яснее всего из порядка [в] целом; но всё же так, как нам возможно было показать, принято, и что по сравнению с предшественниками, пришедшими к исследованию причины, правильно, конечно, и они говорят, однако не ясно»).
[1] Принцип субстанции (материальная причина): Аристотель признает, что его предшественники (досократики, особенно ионийские «фисиологи») правильно идентифицировали материальную основу сущего (ὕλη), хотя и сводили к ней все причины. Они искали ἀρχή, первоначало (вода, воздух, апейрон, огонь, атомы), которое является субстратом всех изменений.
Альберт Швеглер: «Die älteren Physiker erkannten nur die materielle Ursache… sie suchten das Princip, den Stoff, aus dem das Seiende besteht» («Старшие физики признавали только материальную причину… они искали принцип, вещество, из которого состоит сущее») (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 49).
А.Ф. Лосев: «Философы-досократики, по Аристотелю, только тем и занимались, что искали ту или иную материальную субстанцию для объяснения всего существующего» (Аристотель. Метафизика / Пер. и примеч. А.В. Кубицкого. М.–Л., 1934. Прим. 74 (переиздание: Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 77)).
W.D. Ross: «The early philosophers, he says, in their search for the causes of things, recognized only the material cause» («Ранние философы, говорит он, в своем поиске причин вещей признавали только материальную причину») (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford, 1924. P. 130).
[2] Принцип движущейщей причины (производящая причина): Некоторые философы, такие как Эмпедокл (Любовь и Вражда) и Анаксагор (Ум – Νοῦς), выдвинули на первый план начало движения и изменения, отдельное от материи.
Альберт Швеглер: «Empedokles mit seiner Liebe und seinem Hasse, Anaxagoras mit seinem Nous haben das Prinzip der Bewegung aufgestellt» («Эмпедокл со своей Любовью и Враждой, Анаксагор со своим Умом установили принцип движения») (Schwegler A. Op. cit. S. 50).
Д.В. Бугай: «Анаксагор вводит "нус" как причину движения и порядка, тем самым постулируя "начало движения"» (Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Маркова. М., 2022. Комм. к 984b15-22 (Серия «Философские технологии»)).
Joseph Sachs: «Anaxagoras is praised for introducing a moving cause that is separate from the material, but blamed for using Mind only as a deus ex machina, not as pervading the whole of nature» («Анаксагор хвалится за введение движущей причины, отдельной от материи, но критикуется за использование Ума лишь как "deus ex machina", а не как пронизывающего всю природу») (Sachs J. Aristotle's Metaphysics. A New Translation. Santa Fe, 2002. P. 15, n. 39).
[3] Принцип формальной причины (причина как форма и сущность): Аристотель усматривает приближение к понятию формы (εἶδος) или сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι) у пифагорейцев (числа как формальный структурирующий принцип) и особенно у Платона (идеи как неизменные сущности вещей).
Альберт Швеглер: «Die Pythagoreer mit ihren Zahlen, Plato mit seinen Ideen haben die formale Ursache, das Wesen der Dinge, zu erfassen gesucht» («Пифагорейцы с их числами, Платон с его идеями пытались постичь формальную причину, сущность вещей») (Schwegler A. Op. cit. S. 50-51).
W.K.C. Guthrie: «The Pythagoreans… were the first to concern themselves with essence and definition, and so pointed the way to the formal cause» («Пифагорейцы… были первыми, кто занялся сущностью и определением, и thus указали путь к формальной причине») (Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy. Vol. VI: Aristotle: An Encounter. Cambridge, 1981. P. 141).
А.Ф. Лосев: «Платон… выдвигает на первый план идею, то есть смысловую оформленность материи, ее осмысленность, ее закон… А это и есть у Аристотеля формальная причина» (Лосев А.Ф. Комментарии к «Метафизике» Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 33).
[4] Принцип конечной причины (целевая причина): Аристотель констатирует, что его предшественники практически не использовали понятие цели (τέλος) или блага (τἀγαθόν) как причины. Хотя у Эмпедокла и Анаксагора есть намеки, они не развиты и не применяются последовательно.
Альберт Швеглер: «Die causa finalis, das Gute und das Ziel, ist von den älteren Philosophen fast gar nicht in Ansatz gebracht» («Конечная причина, благо и цель, почти совсем не была принята во внимание старшими философами») (Schwegler A. Op. cit. S. 51).
W.D. Ross: «The cause "that for the sake of which" has been neglected… Anaxagoras' Nous is a final cause only by accident» («Причина"ради чего" была проигнорирована… Ум Анаксагора является конечной причиной лишь случайным образом») (Ross W.D. Op. cit. P. 132).
Д.В. Бугай: «Целевую причину, по Аристотелю, никто из предшественников не назвал прямо, хотя у некоторых, как у Эмпедокла или Анаксагора, можно найти отдельные намеки, которые, однако, не были осмыслены и разработаны» (Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Маркова. М., 2022. Комм. к 984b15-22).
Библиографический список
Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Кубицкого // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 63–368. (Примечания А.Ф. Лосева).
Аристотель. Метафизика / Пер. и коммент. А.В. Маркова. М.: Академический проект, 2022. (Серия «Философские технологии»).
Лосев, А.Ф. Комментарии к «Метафизике» Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 5–43.
Guthrie, W.K.C. A History of Greek Philosophy. Vol. VI: Aristotle: An Encounter. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Ross, W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1924.
Sachs, J. Aristotle's Metaphysics. A New Translation. Santa Fe: Green Lion Press, 2002.
Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Bd. III. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1848.
Метафизика. Книга I. Главы 8-10.
4) Критика предшествующих философов, гл. 8—10.
а) Древнейшие физиологи, принимавшие только один (материальный) принцип (8, 1—10)
Текст Аристотеля (в редакции):
Что касается тех, кто утверждает единое начало в виде материи, например, воду, воздух, огонь или нечто более плотное/разреженное, чем огонь, но все же единое, то их учение сталкивается с трудностью. Они рассматривают начало лишь как материальную причину, но даже если такое начало способно порождать множество вещей (как, скажем, Фалес считал воду началом всего), возникает вопрос: почему это происходит и какова тому причина? Ведь сама по себе материя не может быть причиной собственного движения и изменения. Например, ни дерево, ни медь не движут сами себя; дерево не делает ложе, а медь – статую, но нечто иное есть причина изменения. Искать же эту причину – значит искать иное, второе начало – [начало] движения.
Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848):
Швеглер подчеркивает, что Аристотель здесь применяет свой четырехпричинный анализ (материя, форма, цель, движущая причина) к учениям своих предшественников и находит их неполноценными, так как они признают лишь материальную причину (Ursache). Он отмечает: «Аристотель упрекает ионийских физиологов не в том, что они выбрали неверное материальное начало, а в том, что они остановились на нем одном, упустив из виду формальный и динамический принцип» [Швеглер, Bd. II, S. 45].
Текст на древнегреческом:
Περὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω θεωρούντων ὅτι μίαν τὴν ἐν ὕλης εἴδει ἀρχὴν τιθέασιν, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ μᾶλλον τούτων ἀραιὸν ἢ πυκνόν,… ἀπορία γέ τις ἂν ἔχοι πρὸς αὐτούς. Ὅτι μὲν γὰρ τὴν ἐν ὕλης εἴδει αἰτίαν μόνην θεωροῦσιν, ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἓν μὲν ὂν γίγνεται πάντα (οἷον ὁ Θαλῆς οὕτως ὕδωρ ἀρχήν φησιν εἶναι πάντων), διὰ τί δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ τίς ἡ αἰτία, οὐ λέγουσιν. [989b] Οὐ γὰρ δὴ αὐτὴ γε ἡ ὕλη κινεῖ ἑαυτήν: οὐ γὰρ ἡ ξύλη ποιεῖ τὴν κλίνην, οὐδ’ ὁ χαλκὸς τὸ ἄγαλμα, ἀλλ’ ἕτερόν τι τῆς μεταβολῆς αἴτιον. Τὸ δὲ τοῦτο ζητεῖν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν ἐστιν—ὥς φαμεν—ἀρχὴν τῆς κινήσεως.
Комментарий:
[989b] – Ссылка на стандартную пагинацию по изданию И. Беккера (1831), принятую в международной практике. Эта нумерация позволяет точно локализовать место в тексте Аристотеля независимо от издания или перевода.
А.Ф. Лосев в своей работе «Критика платонизма у Аристотеля» (1929) указывает, что критика «физиологов» служит для Аристотеля фундаментом для обоснования необходимости учения о неподвижном перводвигателе как причине всякого движения и становления. Он пишет: «Уже здесь, в критике материалистов, зреет аристотелевское учение о Боге как конечной причине мира» [Лосев, с. 78].
Д.В. Бугай в комментариях к переводу «Метафизики» отмечает, что Аристотель не отрицает важность материальной причины, но требует ее дополнения. «Аргумент о невозможности самодвижения материи является одним из ключевых для перехода к учению о неподвижном перводвигателе в XII книге» [Бугай, 2006, с. 210].
b) Эмпедокл и Анаксагор, принимавшие несколько (материальных) принципов (8, 14—20)
Текст Аристотеля (в редакции):
Те, кто принимает несколько начал, например, Эмпедокл с его четырьмя элементами, сталкиваются с теми же трудностями, а также с новыми, специфическими. Они вынуждены признать помимо материи еще и движущую причину. Эмпедокл вводит Любовь (Φιλία) и Вражду (Νεῖκος), а Анаксагор – Ум (Νοῦς). Однако они применяют эти причины неудачно и непоследовательно. Так, Анаксагор прибегает к Уму как к некоему «deus ex machina» лишь в тех случаях, когда испытывает затруднение в объяснении, почему нечто с необходимостью происходит; в остальном же он объясняет события чем угодно, только не Умом.
Комментарий В.Йегера (W. Jaeger, «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development», 1923):
Йегер видит в этой критике важный шаг в развитии собственной мысли Аристотеля. Анаксагор, по его мнению, был самым близким к истине среди досократиков, но так и не сумел до конца разработать телеологический принцип своего Ума. «Аристотель сожалеет, что Анаксагор, открывший Разум как причину миропорядка, не использовал этот принцип систематически для объяснения целесообразности в природе, ограничившись лишь одним толчком» [Йегер, с. 315].
Текст на древнегреческом:
Καὶ οἱ πλείω δὲ τιθέμενοι τὰς ἀρχὰς ὁμοίως τε ἀπαντῶσι τούτοις καὶ ἰδίας τινὰς ἀπορίας. … Ἀναγκαζόμενοι γὰρ κατὰ τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἀκολουθεῖν ἐπάγουσι τὰς ἀρχάς. Ὅτι μὲν γὰρ ἔστι τι αἴτιον ὃ κινήσει, καὶ τοῦτο δῆλον αὐτοῖς. Διὸ ὁ μὲν φιλίαν καὶ νεῖκος εἴρηκε τῶν ἀρχῶν—ὁ μὲν ἓν κινοῦν τὸ φιλία, ὡς ἀγαθόν, ὁ δὲ θάτερον νεῖκος, ὡς κακόν—ὁ δ’ Ἀναξαγόρας νοῦν ὡς μηχανήν, ὅταν ἀπορῇ δι’ ὅτου αἴτιον ἐξ ἀνάγκης, τότε μὲν ἐφέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν αἰτιᾶται πάντα μᾶλλον ἢ τὸν νοῦν. [985a]
Комментарий:
[985a] – Стандартная пагинация Беккера.
А.В. Лебедев в статье «Анаксагор и архе» (журнал «Вопросы философии», 1979, №3) подробно разбирает этот пассаж. Он соглашается с Аристотелем, что Ум у Анаксагора – это именно «μηχανή» (машина, устройство, прием в трагедии), то есть механистическая движущая, но не целевая причина. Ум лишь инициирует вихрь, но не упорядочивает космос телеологически [Лебедев, с. 145].
Джон Бёрнет (J. Burnet, «Early Greek Philosophy», 1892) также отмечает, что Анаксагор использовал Нус для объяснения первоначального импульса, но затем мировой процесс развивался чисто механически, что и вызывает критику Аристотеля, ищущего целевые причины во всей природе [Burnet, p. 259].
с) (Нематериальный) пифагорейский принцип числа (8, 21—31)
Текст Аристотеля (в редакции):
Совершенно иного рода учение пифагорейцев, которые в качестве начал полагали числа. Их преимущество в том, что они говорили о нематериальных принципах. Однако они впали в заблуждение, сводя все сущее к числам и математическим объектам, словно числа есть чувственная, а не идеальная сущность. Они конструировали вселенную из чисел, приписывая числам пространственные свойства, например, считая единицу точкой, двойку – линией и т.д. Это означает, что они ищут начала не в той сфере: числа не могут быть причиной физического движения и изменения, они объясняют лишь количественные, а не качественные характеристики вещей.
Комментарий А.Ф. Лосева («История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика», 1975):
Лосев подчеркивает, что Аристотель, будучи сам математиком, высоко ценил пифагорейцев за выход за пределы чувственного. Однако он критикует их за «гипостазирование», то есть за превращение абстрактных математических понятий в самостоятельно существующие физические сущности. «Пифагорейцы, по Аристотелю, смешали умопостигаемое и чувственное, приписав числам, которые суть свойства вещей, самостоятельное бытие и пытаясь из них вывести все мироздание» [Лосев, с. 432].
Текст на древнегреческом:
Οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τῶν ἀρχῶν τάς τε ἄλλας ἐλάττους καὶ τὰ μαθήματα ποιοῦσιν ἀρχάς. … Τὸ μὲν οὖν μὴ ποιεῖν τὰ μαθήματα αἴτια κινήσεως εὖ λέγουσιν. … Ἔοικε δὲ ἡ ἀρχὴ αὐτοῖς ἡ ἀριθμητικὴ μόνη προσεσχηκέναι τῇ φύσει, ἀριθμοὺς δὲ ποιοῦσιν ὡς ἐκ τούτων ἐκείνην συνεστάναι, ἀλλ’ οὐχ ὡς ἀριθμοὺς ἐκείνης. Ὥσπερ οὖν εἴ τις τὰς ἀρχὰς οἴοιτο εἶναι τοῦ μήκους τὸ ἐπίπεδον, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐπιπέδου τὸ στερεόν. [990a]
Комментарий:
[990a] – Стандартная пагинация Беккера.
В.П. Зубов в работе «Аристотель» (1963) обращает внимание на тонкость критики: пифагорейцы, по Аристотелю, правы, что числа – это сущности (οὐσίαι), но ошибаются, считая их чувственными сущностями, а не сущностями умопостигаемыми. Они пытаются строить физический мир из математических абстракций, что методологически неверно [Зубов, с. 89].
Сэр Дэвид Росс (W.D. Ross, «Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary», 1924) в своем фундаментальном комментарии пишет, что главный упрек Аристотеля пифагорейцам – в смешении категорий: они объясняют физические явления через математические сущности, которые, по Аристотелю, не могут быть действующей причиной в физическом мире [Ross, vol. I, p. 185].
c) платоновское учение об идеях и числах (гл. 9)
Текст Аристотеля (в редакции):
Учение об идеях сталкивается с наибольшим количеством трудностей. Вводя идеи как причины, платоники умножают сущности сверх необходимого: помимо чувственных вещей существуют их идеи, а затем и математические объекты между ними. Однако главный парадокс в том, каким образом идеи, будучи отделенными (χωριστά) от вещей, могут быть причинами их существования и становления. Они не присутствуют в причастных им вещах и не могут двигать их или вызывать изменения. Кроме того, теория идей бесполезна для познания природы, так как неподвижные идеи не объясняют движение и изменение в чувственном мире.
Комментарий А.Ф. Лосева («Критика платонизма у Аристотеля», 1929):
Для Лосева эта критика – центральный пункт расхождения Аристотеля с Платоном. Лосев считает, что Аристотель не просто отрицает теорию идей, но «имманентизирует» их, превращая в имманентные формы (εἴδη) самих вещей, которые и являются подлинными причинами. «Аристотель упрекает Платона в “удвоении вселенной”, которое ничего не объясняет, и предлагает свое решение: форма неотделима от материи, она в ней самой, и потому является действующей и целевой причиной ее существования» [Лосев, с. 156].
Текст на древнегреческом:
Περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν ἔνια μὲν ἂν δόξειεν ὀρθῶς ζητεῖσθαι, ἔνια δ’ οὐκ ὀρθῶς. … Μάλιστα δ’ ἂν τις ἀπορήσειεν τί ποτε συμβάλλεται τὰ εἴδη τοῖς αἰσθητοῖς ἢ οὖσιν ἀιδίοις ἢ γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις· οὔτε γὰρ κινήσεώς ἐστιν οὔτε μεταβολῆς οὐδεμιᾶς αἴτια αὐτοῖς. [991a] … Ὅλως τε ἄλογον ζητεῖν ὄντα τὰ ὄντα, εἰ μή τις ἐρεῖ ὅτι ἐξ ὄντων τινῶν ἐστὶν ἕκαστον· τοῦτο δ’ ἦν ἐξ ὧν ὡς ὕλης. … Τὸ δὲ λέγειν παραδείγματα αὐτὰ εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τἆλλα κενὰ ὀνομάτων ἐστὶ καὶ ποιητικὰ μεταφορὰς λέγειν.
Комментарий:
[991a] – Стандартная пагинация Беккера.
М.А. Дынник в статье «Критика Аристотелем теории идей Платона» (журнал «Философские науки», 1961, №2) акцентирует внимание на аргументе «третьего человека» (который Аристотель также излагает в этой главе): если есть идея человека, благодаря которой мы узнаем всех людей, то должен существовать и некий «третий человек», общий для конкретного человека и его идеи, и так до бесконечности. Это показывает логическую противоречивость теории [Дынник, с. 68].
Г.В.Ф. Гегель в «Лекциях по истории философии» отмечал, что аристотелевская критика платоновских идей – это «возражение здравого человеческого рассудка против выхождения за пределы опыта», но при этом Аристотель сохраняет умопостигаемое содержание идей, понимая их как внутренние формы вещей [Гегель, Соч., т. X, с. 201].
d) Подведение итогов: вся философия до сих пор носит неразвитый, неполноценный характер.
Текст Аристотеля (в редакции):
Таким образом, из нашего рассмотрения ясно, что все предшественники искали лишь те причины, которые мы определили в «Физике»: материальную, движущую и отчасти формальную. Но никто из них не упоминает ясно причину как суть бытия и сущность (формальную причину в полном смысле), а также причину как цель (телеологическую причину). Эмпедокл и Анаксагор лишь слегка и непоследовательно касаются ее. Поэтому можно сказать, что прежняя философия топталась на месте, была неразвита и, подобно необученному в бою воину, могла наносить удары, но не могла дать систематического и полного объяснения бытия.
Комментарий В.Йегера (W. Jaeger, «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development», 1923):
Йегер видит в этой итоговой главе не просто критику, а программу собственного философского строительства Аристотеля. Аристотель подводит итог всей досократовской и платонической философии, чтобы показать незавершенность проекта метафизики и необходимость его завершения через учение о четырех причинах, актуальности и потенциальности и, наконец, о высшей форме как перводвигателе и конечной цели. «Критика I книги – это пролог к собственной системе Аристотеля, который показывает, какими путями не следует идти, и очерчивает круг проблем, требующих нового решения» [Йегер, с. 352].
Текст на древнегреческом:
Ὅτι μὲν οὖν αἰτίας ζητοῦσιν ἅπαντες οἱ πρὸ ἡμῶν, φανερόν ἐκ τε τῶν εἰρημένων… ἀλλ’ ἀμυδρῶς ταῦτα λέγεται, καὶ ἐν μὲν τῷ λόγῳ τρόπον τινὰ ὑπάρχει ταῦτα πᾶσιν, ἐν δὲ τῇ φύσει παντελῶς. [993a] … Ἔοικε δ’, ὥσπερ ἐν πολέμῳ φεύγουσιν ἀποκρουομένοις, οὕτως ἐκεῖνοι τρέπονται πρὸς τὰ ἐφεξῆς, ἵνα μὴ ληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ λόγου, ὡς οὐδενὸς ὄντος τῶν εἰρημένων. Ἀμυδρῶς μὲν οὖν καὶ ἐνδεῶς πᾶσαι αὗται αἱ δόξαι φαίνονται λελεγμέναι.
Комментарий:
[993a] – Стандартная пагинация Беккера.