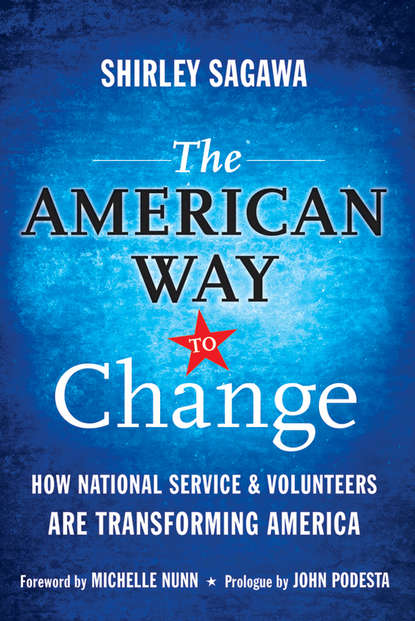Метафизика Аристотеля. Первая книга
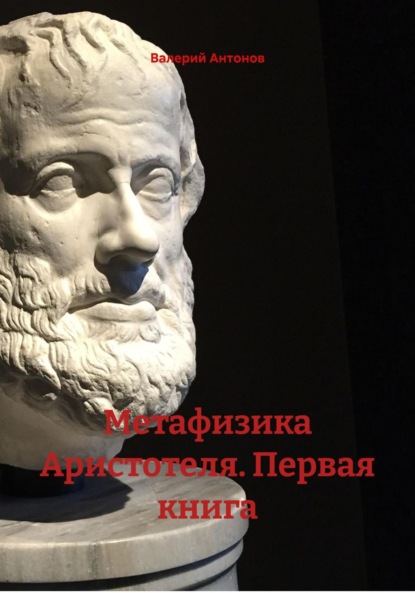
- -
- 100%
- +
Э. Целлер (E. Zeller, «Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung», 1844-1852) интерпретирует этот итог как доказательство исторического прогресса в философии: Аристотель осознает себя наследником и завершителем всего предшествующего философского развития, систематизируя разрозненные открытия своих предшественников в единое учение [Zeller, Bd. II.2, S. 203].
Д.В. Бугай в своем переводе и комментарии подчеркивает, что метафора с необученным воином («τρωθέντες γάρ, φησίν, ὑπὸ τοῦ λόγου») показывает силу диалектики Аристотеля: он признает, что его предшественники нащупали верные пути, но не смогли выдержать логической проверки и построить стройную систему [Бугай, 2006, с. 245].
Библиографический список
Аристотель. Метафизика. Перевод и комментарии А.В. Кубицкого, М.-Л., 1934. (Ссылки на пагинацию Беккера даны в квадратных скобках в тексте).
Бугай, Д.В. Аристотель. Метафизика. Перевод, комментарии, толкования. СПб.: Алетейя, 2006.
Гегель, Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга вторая. Соч., т. X. М.: Партиздат, 1932.
Дынник, М.А. Критика Аристотелем теории идей Платона // Философские науки. 1961. №2. С. 65-73.
Зубов, В.П. Аристотель. М.: Мысль, 1963.
Лебедев, А.В. Анаксагор и архе // Вопросы философии. 1979. №3. С. 142-154.
Лосев, А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля (переиздание). М.: Мысль, 1990.
Лосев, А.Ф. История антической эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975.
Burnet, J. Early Greek Philosophy. L.: Adam & Charles Black, 1892.
Jaeger, W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. Oxford: Clarendon Press, 1934.
Ross, W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I-II. Oxford: Clarendon Press, 1924.
Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Bd. I-IV. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848.
Zeller, E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bd. II.2: Aristoteles und die alten Peripatetiker. Leipzig: O.R. Reisland, 1921.
Глава 1
Все люди обладают врожденным влечением к познанию. Доказательством [1] этого является любовь к чувственным восприятиям, которые, даже не имея определенной практической пользы, мы любим ради них самих, и прежде всего это касается восприятий с помощью глаз.
[1] «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. Σημεῖον δ᾽ ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις: καὶ γὰρ χωρίς τῆς χρείας ἀγαπῶνται δι᾽ αὑτάς, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων.» (Arist. Met. 980a 21—23)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 3): Аристотель начинает с эмпирического факта – любви к ощущениям, особенно зрению, – чтобы вывести из него всеобщее стремление к знанию. Это не абстрактный постулат, а наблюдение за природой человека. «Die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen ist das σημεῖον, das Anzeichen, das Symptom jenes angeborenen Triebes».
· А.Ф. Лосев (Аристотель, Сочинения, 1975, Т. 1, С. 69): «Аристотель… исходит из непосредственного факта, из наблюдения над человеческой природой… Стремление к знанию заложено в самой природе человека, и первым свидетельством этого является бескорыстная любовь к чувственным восприятиям».
· Д.В. Бугай (Бугай Д.В. Лекции: «Метафизика Аристотеля – 1. „Метафизика“ Аристотеля: проблемы текстологии, интерпретации» и «Метафизика Аристотеля – 2. Единство текста, генезис знания, учение о четырёх причинах» и др..): Указание на «бесполезность» чувств подчеркивает, что стремление к знанию (τὸ εἰδέναι) является самоценным и имманентно присущим разумной душе. Зрение выделено как наиболее познающее (γνωριστικωτάτη) из чувств, поскольку оно максимально дистанцировано от объекта и потому наиболее объективно.
Ведь не только для того, чтобы действовать, [2] но и без этой цели мы предпочитаем зрение почти всему остальному.
[2] «…πρὸς πράξιν αἱρούμεθα αὐτὰ μᾶλλον ἢ χάριν τοῦ πράττειν.» (Cf. Arist. Met. 980a 24-25)
Комментарий:
· W.D. Ross (Aristotle's Metaphysics, 1924, Vol. I, P. 114): Аристотель уточняет свою мысль: мы ценим зрение не только как инструмент для действия (πρὸς πράξιν), но и как самоцель (χάριν αὑτῶν). Это ключевой момент для различения практического и теоретического отношения к миру.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 69): «Здесь проводится тонкое различие между полезностью ощущения для действия и его самоценностью, которая и свидетельствует о врожденном стремлении к знанию как таковому».
А все потому, что это чувство дает нам больше всего знаний [3] и лучше всего показывает вещи в их взаимном различии.
[3] «αἴτιον δ᾽ ὅτι μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν ἡμᾶς αὕτη τῶν αἰσθήσεων καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς.» (Arist. Met. 980a 26-27)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 4): Зрение – это главный орган познания, потому что оно наиболее абстрактно и менее всего связано с материальным контактом. Оно позволяет различать (δηλοῖ διαφοράς) множество свойств объекта одновременно, что является основой для формирования общего представления.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 106): Утверждение, что зрение «дает больше всего знаний» (μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν), фундаментально. Именно через выявление различий (διαφοράς) начинается работа рассудка, ведущая к образованию понятий и определений.
Итак, от природы животные обладают способностью к чувственному восприятию, [4] причем память возникает в одной их части, а не в другой, поэтому первые более разумны и послушны, чем вторые, у которых нет памяти.
[4] «Ἔχει δ᾽ ἡ μνήμη ἐκ τοῦ αἰσθάνεσθαι συμβαίνουσα τοῖς μὲν τῶν ζῴων τοῖς δ᾽ οὔ… διὸ καὶ φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα τὰ ἔχοντα μνήμην τῶν μὴ ἐχόντων ἐστίν.» (Arist. Met. 980b 25 – 981a 1)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 116): Память (μνήμη) – это первый шаг от простого ощущения к опыту и знанию. Животные, лишенные памяти, остаются на уровне сиюминутного восприятия. φρόνιμος здесь означает не «мудрый», а «сообразительный», «обладающий практическим интеллектом».
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 70): «Аристотель строит целую лестницу познавательных способностей… Память есть уже нечто большее, чем простое ощущение, и она является основой для дальнейшего восхождения к опыту и искусству».
Все те, кто не может слышать звук, [5], например, пчелы и подобные им животные, разумны и при этом не способны к обучению, тогда как те, кто, помимо памяти, обладает еще и этим чувством, чувством слуха, учатся.
[5] «…φρονιμώτερα μὲν οὖν τὰ ἄλλα τῶν μὴ δυναμένων ἀκούειν ἐστίν, μαθητικῶς δ᾽ οὔ, ἀλλ᾽ ἀδύνατα μανθάνειν, οἷον μέλιττα καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ζῴων ἐστίν.» (Arist. Met. 981a 5-7)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 7): Этот пример показывает, что Аристотель не сводит φρόνησις только к памяти. Пчелы сообразительны инстинктивно, но неспособны к обучению (μάνθανευν), которое требует не только памяти, но и способности воспринимать звук – вероятно, как основу для получения указаний и обучения от других особей.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 108): Упоминание слуха не случайно. Аристотель, вслед за Платоном, видит в речи (логосе), воспринимаемой на слух, главный инструмент обучения и передачи знания. Таким образом, слух является каналом для получения всеобщего, выраженного в словах.
Другие животные живут образами и воспоминаниями, [6] и практически не участвуют в опыте; человек же живет идеями и разумным мышлением.
[6] «ζῇ δὲ τὰ μὲν φαντασίᾳ καὶ μνήμῃ, ἐμπειρίας δὲ μετέχει ὀλίγον…» (Arist. Met. 980b 26-27)
Комментарий:
· H. Bonitz (Aristotelische Metaphysik, 1890, Bd. II, S. 10): Важно различать φαντασία (воображение, образ) и ἐμπειρία (опыт). Животные живут единичными образами прошлого (воспоминаниями), в то время как опыт – это уже нечто общее, возникающее из множества воспоминаний. Человек же способен к еще большей степени обобщения – τέχνη и ἐπιστήμη.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 70): «Здесь намечается коренное отличие человека от животного. Если животное живет только единичными представлениями памяти, то человек… живет обобщениями, искусством и наукой».
Однако для человека [7] опыт возникает из памяти таким образом, что общая совокупность воспоминаний о схожих процессах в конечном итоге приобретает значение опыта.
[7] «…ἐκ μνήμης ἐμπειρία γίγνεται τοῖς ἀνθρώποις: αἱ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τοῦ αὐτοῦ πράγματος μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν ἀποτελοῦσιν.» (Arist. Met. 981a 1-3)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 116): Аристотель дает почти психологическое описание генезиса знания. Единичное воспоминание бесполезно. Но когда множество воспоминаний (αἱ πολλαὶ μνῆμαι) об одном и том же роде вещей накапливается, в душе возникает единое представление (μία ὑπόληψις) – это и есть опыт (ἐμπειρία).
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 107): Ключевая фраза – «силу одного опыта» (μιᾶς ἐμπειρίας δύναμιν). Опыт – это уже не просто сумма воспоминаний, а новое качество, некая унификация множественного, зачаток общего понятия.
Действительно, можно сказать, что опыт сам по себе связан с наукой и теорией. С другой стороны, [8] из опыта человек получает науку и теорию: опыт, справедливо говорит Пол, – мать теории, неопытность – мать случая.
[8] «…ὅτι ἡ τέχνη γίγνεται ὅταν ἐκ πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλου γένηται περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. […] ἡ μὲν ἐμπειρία τέχνην ἐποίησεν, ὡς φησὶ Πῶλος, ἡ δὲ ἀπειρία τύχην.» (Arist. Met. 981a 5-7, 981a 3-4)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 8): Пол (вероятно, софист Пол Агригентский) цитируется как авторитет в области практического знания. Изречение подчеркивает, что искусство (τέχνη) рождается из организованного и обобщенного опыта, в то время как беспомощность (ἀπειρία) оставляет человека на милость слепой случайности (τύχη).
· H. Bonitz (Op. cit. S. 11): Процесс перехода от опыта к искусству описывается как скачок: из многих мысленных представлений (ἐννοημάτων), полученных из опыта, возникает одно общее представление (μία καθόλου ὑπόληψις). Это и есть момент рождения теоретического знания.
А теория возникает путем выведения общего положения по отношению к однородному во всей полноте эмпирических восприятий. [9]
[9] «…τὸ μὲν γὰρ ἔχειν ὑπόληψιν ὅτι τῷδε τῷ κάμνοντι τῷδε συμφέρον ἐγένετο, οἷον Καλλίᾳ καὶ Σωκράτει καὶ κατὰ ἕνα πολλοῖς τοιούτοις, ἐμπειρίας ἐστίν· τὸ δ’ ὅτι πᾶσι τοῖς τοιούτοις, ἀφορισθεῖσι κατ’ εἶδος ἕν, συμφέρον ἐγένετο… τέχνης.» (Arist. Met. 981a 7-12)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 117): Здесь Аристотель иллюстрирует разницу на примере медицины. Опытный врач знает, что средство А помогло Каллию, Сократу и многим другим. Но только искусный врач (τεχνίτης) знает, что средство А помогает всем людям определенного типа (κατ' εἶδος ἕν), страдающим от определенной болезни. Знание общего (τὸ καθόλου) – суть искусства.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 71): «Приводятся совершенно ясные примеры для различения опыта и искусства… Опыт имеет дело с бесконечной множественностью единичных фактов, а искусство – с их общей и единой смысловой сущностью».
Утверждение, что это конкретное средство помогает Каллию, когда он страдает от этой конкретной болезни, [10] или Сократу и многим другим, взятым по отдельности, – это вопрос опыта, тогда как утверждение, что оно помогает всем людям одного рода, когда они страдают от этой конкретной болезни, слизистой, желчной, лихорадочной, [11] – это вопрос теории.
[11] См. предыдущую цитату [9].[10] См. предыдущую цитату [9]. Комментарий:
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 109): Упоминание конкретных болезней («слизистой, желчной, лихорадочной») показывает, что Аристотель говорит не об абстрактном всеобщем, а о всеобщем, определенном через причину (в данном случае, через причину болезни). Теория знает не просто «что помогает», но «почему это помогает всем с такой-то причиной болезни».
В практических вопросах опыт, конечно, ничем не отличается от теории; напротив, мы обнаруживаем, что те, кто обладает опытом [12], даже более точны, чем те, кто не обладает опытом.
[12] «…δόξειεν ἂν τὰ αὐτὰ δύνασθαι ἡ ἐμπειρία τῇ τέχνῃ πρὸς τὸ πράττειν, καὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνουσιν οἱ ἔμπειροι τῶν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων.» (Arist. Met. 981a 13-15)
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 12): Аристотель – трезвый эмпирик и признает превосходство опыта в конкретной практике. Человек с опытом, но без теоретического понимания (λόγος), часто будет успешнее, чем теоретик без опыта. Это важная уступка практицизму.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 71): «Философ… вовсе не принижает значение опыта. Наоборот, он прямо говорит о большом практическом значении опыта по сравнению с голой, абстрактной теорией».
А все потому, что опыт – это знание отдельного человека, теория – знание общих вещей, тогда как действие и производство всегда связаны с отдельным человеком. Ибо лекарь исцеляет не человека, а Каллия, Сократа или другого человека, который, конечно, тоже человек. [13]
[13] «αἴτιον δ’ ὅτι ἡ μὲν τέχνη τῶν καθόλου ἐστί, τὸ δὲ πράττειν καὶ ἡ πρᾶξις περὶ τὰ καθ’ ἕκαστά ἐστιν. οὐ γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἰᾶται ὁ ἰατρός, εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν ἢ Σωκράτην ἤ τινα ἄλλον τῶν οὕτω καλουμένων, ᾧ συμβέβηκεν ἄνθρωπος εἶναι.» (Arist. Met. 981a 16-20)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 118): Это классическое изложение аристотелевского различия между знанием общего и практикой частного. Теория (ἡ τέχνη) имеет дело с универсалиями (τὰ καθόλου), а практика (ἡ πρᾶξις) – с единичными случаями (τὰ καθ’ ἕκαστα). Гениальная формулировка «исцеляет не человека, но Каллия или Сократа» означает, что врач лечит конкретную индивидуальность, которой случайно (κατὰ συμβεβηκός) присущ вид «человек».
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 110): Это онтологическое обоснование превосходства опыта в практике. Бытие всегда индивидуально, поэтому действие, направленное на бытие, должно учитывать эту индивидуальность. Общее понятие «человек» не болеет и не лечится.
Если же человек обладает понятием без опыта, знает общее, но не отдельного человека, то он часто не сможет исцелить, ибо исцелять нужно именно человека. [14]
[14] «…ὥστε εἴ τις ἄνευ τῆς ἐμπειρίας τὸν λόγον ἔχοι καὶ τὸ καθόλου γνωρίζοι, τὸ δὲ ἐν τούτῳ καθ’ ἕκαστον ἀγνοοῖ, πολλάκις ἁμαρτήσεται τῆς θεραπείας· θεραπευτὸν γὰρ τὸ καθ’ ἕκαστον.» (Arist. Met. 981a 20-24)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 10): Это прямое следствие из предыдущего тезиса. Теоретическое знание, не оплодотворенное опытом, слепо и беспомощно перед лицом конкретной реальности. Цель врачевания (θεραπευτὸν) – всегда нечто единичное (τὸ καθ’ ἕκαστον).
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 72): «Аристотель… прекрасно понимает ограниченность голой теории… Поэтому аристотелевский ученый – это не кабинетный мыслитель, оторванный от жизни, но непременно и практик».
Тем не менее, мы считаем, что знание и разумение в большей степени относятся к теории, чем к опыту, и считаем теоретика мудрее эмпирика, исходя из того, что [15] мера знания всегда является и мерой мудрости.
[15] «…τὴν τέχνην δὲ μᾶλλον εἶναι ἐπιστήμην τῆς ἐμπειρίας ὑπολαμβάνομεν, καὶ σοφωτέρους τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ἡγούμεθα, ὡς κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουθούσης τῆς σοφίας ἅπασιν.» (Arist. Met. 981a 24-26)
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 13): Несмотря на уступку практической ценности опыта, Аристотель теперь утверждает превосходство искусства (τέχνη) как более истинного знания (ἐπιστήμη). Критерий – степень познания (κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον). Мудрость (σοφία) следует за знанием, то есть тем, кто знает больше и глубже, тот и мудрее.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 111): Здесь происходит переход от гносеологии к аксиологии. Хотя опыт полезнее в конкретной ситуации, теория ценнее как знание, так как она схватывает причины и сущности. Ценность определяется не полезностью, а близостью к истине.
Мы поступаем так потому, что один знает причину, а другой – нет. Ибо эмпирик знает только «что», но не «почему», тогда как теоретик [16] знает и «почему», и « в чем причина».
[16] «…διότι οἱ μὲν τὴν αἰτίαν ἴσασιν, οἱ δ’ οὔ. οἱ μὲν γὰρ ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασιν, διότι δ’ οὐκ ἴσασιν· οἱ δὲ τὸ διότι καὶ τὴν αἰτίαν γνωρίζουσιν.» (Arist. Met. 981a 28-30)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 119): Это центральный пункт аристотелевской теории науки. Истинное знание (ἐπιστήμη), в отличие от простого мнения или опыта, есть знание через причины (δι’ αἰτίας). Различение «что» (τὸ ὅτι) и «почему» (τὸ διότι) фундаментально для всей аристотелевской философии науки.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 72): «Это… один из самых главных пунктов учения Аристотеля о знании… Подлинное знание обязательно является знанием причин, а не только фактов».
По этому признаку мы также ставим мастеров-строителей выше и считаем их во всем более проницательными и мудрыми, чем подсобных работников, потому что они знают причину происходящего, в то время как последние, как и многие лишенные всякой духовности люди, действительно работают, но без осознания того, что они делают. [17]
[17] «…διὸ καὶ τῶν τεχνιτῶν τοὺς μὲν ἀρχιτέκτονας τιμιωτέρους εἶναι νομίζομεν καὶ μᾶλλον εἰδέναι τῶν χειροτεχνῶν, ὅτι τὰς αἰτίας ἴσασι τῶν ποιουμένων… οἱ δὲ χειρότεχνοι καθάπερ τινὰ ἄψυχα πράττουσι μὲν πράττοντα, ἀλλ’ ὃ μὴ εἰδότα πράττειν· τὰ μὲν γὰρ ἄψυχα φύσει πως ποιεῖ ταῦτα, οἱ δὲ χειρότεχνοι δι’ ἔθος.» (Arist. Met. 981a 30 – 981b 5)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 12): Аристотель использует социальный пример для иллюстрации epistemological принципа. Архитектор (ἀρχιτέκτων) ценится выше простого ремесленника (χειροτέχνης), потому что обладает знанием причин и может руководить. Ремесленник действует по привычке (δι’ ἔθος), подобно неодушевленному предмету (ἄψυχα), который движется только по природной необходимости.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 112): Сравнение с неодушевленными предметами (огонь горит, а ремесленник строит) подчеркивает, что действие без понимания причины является несвободным, чисто механическим. Знание причины – условие свободной и разумной деятельности.
о том, что они делают, подобно огню, который горит. Неодушевленное, конечно, действует в силу своей природной организации, а ремесленник – по привычке, ибо последние мудрее не потому, что они практики, а потому, что они имеют понятие и знают причины. [18]
[18] См. предыдущую цитату [17].
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 14): Привычка (ἔθος) здесь – нечто среднее между природной необходимостью и разумным действием. Это приобретенный, но не осмысленный навык. Мудрость ремесленника проистекает не из самой практики (практикуются и те, и другие), а из обладания λόγος – разумным основанием их деятельности.
Вообще, способность учить – это свойство знания: поэтому мы также считаем, что теория – более наука, чем опыт: ведь теоретик может учить, а [19] эмпирик – нет.
[19] «ἁπλῶς τε σημεῖον τοῦ εἰδέναι τὸ δύνασθαι διδάσκειν ἐστίν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν τέχνην τῆς ἐμπειρίας ἐπιστήμην μᾶλλον ἡγούμεθα· δύνανται γὰρ, οἱ δὲ οὐ δύνανται διδάσκειν.» (Arist. Met. 981b 7-10)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 120): Способность учить (τὸ δύνασθαι διδάσκειν) – ключевой критерий для различения подлинного знания от простого умения. Чтобы учить, нужно быть способным выразить всеобщие принципы и причины (λόγον διδόναι), чем обладает теоретик, но не эмпирик.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 73): «Способность обучения… считается здесь признаком самого высокого знания… Тот, кто обладает только опытом, не может сообщить его другим, потому что он не осознает тех общих принципов, на которых этот опыт основан».
Мы также не приписываем чувственным восприятиям, хотя они и являются самыми прекрасными источниками знания для человека, характер науки, поскольку они не дают объяснения причин [20] чего-либо, например, почему огонь теплый, а только то, что он теплый.
[20] «…τῶν δ’ αἰσθήσεων οὐδεμίαν σοφίαν ἡγούμεθα εἶναι… διότι τὸ μὲν ὅτι λέγουσιν, τὸ δὲ διότι οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν οὐδενός.» (Arist. Met. 981b 10-13)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 14): Чувства дают незаменимый исходный материал для знания (τὸ ὅτι), но сами по себе они «немы». Они не могут дать объяснения (τὸ διότι), то есть вывести воспринятый факт из его причин и принципов. Это прерогатива разума.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 113): Этот тезис резюмирует всю предыдущую аргументацию. Чувственное восприятие – основа, но не вершина познания. Наука начинается там, где начинается вопрос «почему?».
В этих условиях вполне понятно, что тот, кто первым изобрел какое-либо искусство или науку, выходящую за рамки здравого смысла, вызывал восхищение людей не только из-за пользы, которую принесло его изобретение, но и ради своей высшей мудрости. Но когда изобреталось несколько искусств и наук, [21] одни из которых служили для общей пользы, а другие – для высших духовных нужд, изобретатели последних, естественно, всегда считались мудрее изобретателей первых, потому что их науки не служили пользе.
[21] «ὁ δὴ πρῶτος εὑρών [τέχνην] παρὰ τὰς κοινὰς αἰσθήσεις θαυμασθῆναι μὲν εἰκός… […] πλειόνων δὲ τεχνῶν εὑρεθεισῶν καὶ τῶν μὲν πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ πρὸς διαγωγὴν οὖσῶν, αἰεὶ σοφωτέρους τοὺς τοιούτους τῶν τεχνιτῶν ἐκείνων ὑπολαμβάνεσθαι, διὰ τὸ μὴ πρὸς χρῆσιν εἶναι τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν…» (Arist. Met. 981b 14-20)
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 15): Аристотель проводит историко-культурный анализ развития наук. Сначала восхищаются любым изобретателем. Затем приоритет смещается от полезных искусств (πρὸς τἀναγκαῖα) к тем, которые служат для «провождения времени» (πρὸς διαγωγήν), то есть для досуга и свободного теоретизирования. Мудрость ассоциируется с бесполезным, самоценным знанием.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 73): «Здесь… проводится очень важная мысль о бескорыстии и самоцельности мудрости… Науки, возникшие ради удовлетворения насущных потребностей, стоят ниже наук, возникших ради чистого знания».
Таким образом, получилось так, что те науки [22], которые не относились к удовольствиям и общим потребностям, были изобретены только тогда, когда науки последнего рода уже были развиты, и сначала там, где у людей был досуг.
[22] «…διόπερ ἤδη πάντων τῶν τοιούτων εὑρεθέντων αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδ’ ἀναγκαῖα τῶν ἐπιστημῶν εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν τούτοις τοῖς τόποις οὗ σχολὴ ἐγένετο.» (Arist. Met. 981b 20-22)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 121): Возникновение теоретического знания связано с социально-экономическим условием – наличием досуга (σχολή). Это не просто свободное время, а особое состояние, освобожденное от забот о необходимом, предназначенное для высшей деятельности души.
Так, математические науки [23] впервые возникли в Египте, потому что там было праздное жреческое сословие.
[23] «διὸ περὶ Αἴγυπτον αἱ μαθηματικαὶ πρῶτον τέχναι συνέστησαν, ἐκεῖ γὰρ ἀφείθη σχολάζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος.» (Arist. Met. 981b 23-25)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 16): Это историческое замечание (вероятно, восходящее к Геродоту) иллюстрирует предыдущий тезис. Жрецы Египта были первым классом, которому был дарован досуг (ἀφείθη σχολάζειν), и потому именно у них впервые развились абстрактные математические науки.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 115): Аристотель видит прямую связь между социальным статусом, свободным от физического труда, и генезисом теоретического знания. Математика здесь – пример наиболее абстрактного и потому «бесполезного» знания, которое могло возникнуть только в условиях досуга.
Разница между [24] искусством и наукой, и другими понятиями, относящимися к ним, обсуждалась в этических книгах: настоящее [25] обсуждение имеет лишь цель показать, что обычно считается, будто так называемая мудрость имеет отношение к конечным причинам и принципам.
[25] «ὅτι δ’ ἡ σοφία περί τινας ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐστὶν ἐπιστήμη, δῆλον ἐκ τῶν πρώτων ἤδη θεωρούντων ἡμᾶς.» (Arist. Met. 982a 1-2)[24] «τί μὲν οὖν διαφέρει τέχνη ἐμπειρίας καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα, εἴρηται ἐν τοῖς Ἠθικοῖς…» (Arist. Met. 981b 25-26) Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 16): Аристотель отсылает к «Никомаховой этике» (VI, 3-4), где подробно разбираются интеллектуальные добродетели: искусство (τέχνη), научное знание (ἐπιστήμη), практическая мудрость (φρόνησις), ум (νοῦς) и мудрость (σοφία). Здесь же он фокусируется на мудрости как высшем виде знания.
· W.D. Ross (Op. cit. P. 122): Фраза «как полагают» (ὑπολαμβάνεσθαι) указывает, что Аристотель теперь переходит от анализа обыденных представлений о мудрости к ее собственному философскому определению. Итогом всего предшествующего анализа является вывод: мудрость – это наука о первых причинах и началах (περί τινας ἀρχὰς καὶ αἰτίας).
Таким образом, как я уже говорил, эмпирик считается мудрее того, кто обладает чувственным восприятием, а теоретик опять-таки мудрее эмпирика; точно так же мастер-строитель ставится выше подсобного рабочего, а теоретические науки – выше практических. То, что мудрость – это наука об определенных причинах и принципах, ясно из вышесказанного.