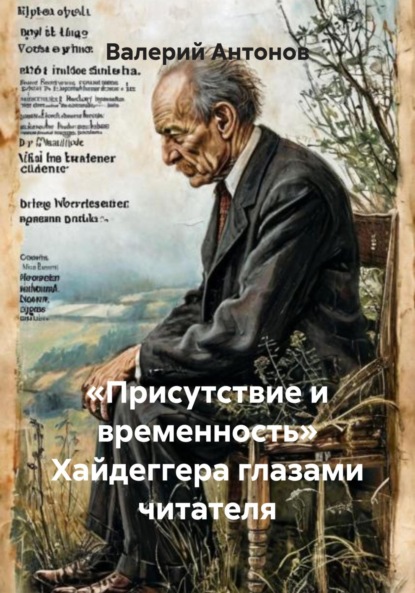- -
- 100%
- +
Таким образом, §49 – это методологическая «чистка территории». Отбросив все, чем анализ смерти не является, Хайдеггер готовится к позитивному раскрытию феномена в его чистоте в следующем параграфе.
Трактовки и библиографические источники
1. Ключевая интерпретация: Методологический строй «Бытия и времени»
· Трактовка: Этот параграф – блестящий пример хайдеггеровского феноменологического метода: редукции (вынесения за скобки всего, что не принадлежит сущности явления) и поиска изначального опыта. Он показывает, как онтологический вопрос первичен по отношению к онтическому.
· Источники:
o Stephen Mulhall. Heidegger and Being and Time. – Routledge, 2005. – Малхалл подробно разбирает метод Хайдеггера, показывая, как разграничение онтического и онтологического является стержнем всего проекта «Бытия и времени».
o Taylor Carman. Heidegger's Analytic: Interpretation, Discourse, and Authenticity in Being and Time. – Cambridge University Press, 2003. – Карман анализирует, как Хайдеггер строит свою аргументацию, последовательно отсекая нерелевантные интерпретации, чтобы добраться до экзистенциального ядра феномена.
2. Критика научного и обыденного понимания смерти
· Трактовка: Хайдеггер проводит критику сциентизма и психологизма, показывая, что они не способны схватить экзистенциальный смысл смерти, так как заранее помещают его в неподходящую онтологическую рамку (бытие как присутствие или субъективное переживание).
· Источники:
o Hubert L. Dreyfus. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I. – MIT Press, 1991. – Дрейфус комментирует, как Хайдеггер «обезвреживает» традиционные подходы, чтобы показать уникальность экзистенциального анализа.
o Михаил Михайлович Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. – Хотя Бахтин не комментирует Хайдеггера, его концепция «не-алиби в бытии» и ответственности, вытекающей из уникальности моего места в мире, перекликается с хайдеггеровской идеей «никто-не-может-умереть-за-меня» как основания экзистенциальной ответственности.
3. Отечественные интерпретации:
· Алексей Викторович Ахутин. Поворотные времена. Статьи и наброски. 1965—2003. – СПб.: Наука, 2005. – Ахутин, один из лучших интерпретаторов Хайдеггера в России, в своих работах часто подчеркивает этот «посюсторонний» характер его аналитики, видя в нем не отрицание трансцендентного, а радикально новую постановку вопроса о смысле бытия здесь.
· Вадим Валерьянович Бибихин. Другое начало. – СПб.: Наука, 2003. – Бибихин глубоко прорабатывает хайдеггеровское различение онтического и онтологического, показывая, что «посюсторонность» анализа смерти – это не материализм, а требование мыслить из самого бытия, а не из спекулятивных конструкций.
· Сергей Александрович Коначёв. Онтология и теология: философия Мартина Хайдеггера и становление теологии XX века. – СПб.: Изд-во РХГА, 2016. – Эта работа важна для понимания, как хайдеггеровский «посюсторонний» анализ, несмотря на свое воздержание от суждений, оказал огромное влияние на протестантскую теологию (Бультман, Тиллих), заставив ее переосмыслить свои основания.
Диалог: Хайдеггер и русские интерпретаторы.
Хайдеггер (обращаясь к троим): Ваши усилия помыслить вместе со мной дороги мне. Вы избегаете главной ошибки – вы не превращаете мои слова в философемы, в учение. Вы пытаетесь проделать тот путь мысли, на который я лишь указывал.
Ахутину: Вы, Алексей Викторович, верно уловили суть моего раннего замысла. Да, это «посюсторонность» (Diesseitigkeit). Но не в смысле позитивистского закрытия горизонта, а как радикальное вопрошание о здесь-бытии этого самого «здесь». Вы правы, это не отрицание трансцендентного, а попытка найти для него почву иначе, чем через метафизическое удвоение мира. Однако в вашем акценте на «новой постановке вопроса» кроется опасность остановиться на методологическом уровне. Вопрос о смысле Бытия – это не «постановка», а событие с самим вопрошающим. Бытие не является объектом вопроса, оно захватывает вопрошающего, делает его своим заложником. Ваша интерпретация точна, но, быть может, слишком академична для того пожара, что должен был разжечь этот вопрос.
Бибихину: Вадим Валерьянович, ваш голос был одним из тех, кто слышал в немецкой речи отзвук иного начала. Ваше «другое начало» – это ведь и есть то, что я искал в противовес первому началу европейской метафизики у греков. Вы абсолютно правы: «посюсторонность» смерти – это не биологический или психологический факт. Это онтологическое условие возможности конечности как таковой. Думать из самого бытия – значит освободиться от «спекулятивных конструкций», да. Но и это лишь подготовительный шаг. Само «бытие», о котором я говорил вначале, позже потребовало от меня иного языка – языка события (Ereignis), при-своения, дара и отказа. Ваше прочтение «Бытия и времени» – одно из самых глубоких, но оно, как и сам этот труд, есть лишь путь к…
Коначёву: Сергей Александрович, ваш труд показывает парадоксальную судьбу мышления. Да, я настаивал на том, чтобы теология не использовала философию как служанку для обоснования своих догматов. Но именно этот строгий, «посюсторонний» анализ Dasein, его заброшенности, его бытия-к-смерти, – именно он освободил теологию XX века. Он заставил ее вернуться к изначальному экзистенциальному опыту веры, к керигме, отбросив спекулятивные наслоения. Вы brilliantly показываете, как мой метод, будучи феноменологически нейтральным, стал катализатором для теологии, ищущей аутентичности. Это доказывает: мысль, верная своему делу, не говорит «о» Боге, но, расчищая место для подлинного вопрошания, может косвенно подготовить возможность для того, чтобы услышать зов божественного. Это не теология, а пред-варительная работа (Vorarbeit) на её пороге.
Синтез его ответа:
Хайдеггер (обобщая): Вы все трое верно поняли мой жест воздержания от спекулятивной трансценденции. Вы увидели в «посюсторонности» не отрицание, а углубление, радикализацию вопроса.
· Ахутин увидел в этом новый метод.
· Бибихин – онтологическую строгость.
· Коначёв – косвенное теологическое воздействие.
Но я бы добавил: эта «посюсторонность» Dasein есть лишь обратная сторона присутствия самого Бытия. Аналитика Dasein была необходима, потому что метафизика забыла место (Da), в котором только и может разыграться вопрос о Бытии. Говоря о «посюсторонности» человека, я на самом деле указывал на «близость Бытия», которое нуждается в человеке как в своем просвете.
Таким образом, вы говорите о следствии (посюсторонность Dasein), в то время как мой вопрос был направлен на причину этого следствия – на само Бытие, которое дарует себя в этом «здесь» и требует от человека «хранить» эту истину.
Ваши интерпретации – верные и глубокие спутники на пути к «другому началу». Но они останавливаются на полпути, описывая карту местности. Задача же – пройти её до конца, к тому молчаливому источнику, откуда берёт начало сама мысль. И этот источник – не «потустороннее», а самая что ни на есть «посюсторонняя» тайна здесь-присутствующего Бытия.
Мы подходим к кульминационному моменту – экзистенциально-онтологической структуре смерти. Это сердцевина всей аргументации Хайдеггера о временности Dasein'а.
§50 «Предварительное прочерчивание экзистенциально-онтологической структуры смерти»: Взгляд изнутри Dasein.Ключевая задача параграфа: Позитивно раскрыть, что такое смерть как способ бытия Dasein'а, исходя из его фундаментальной структуры – заботы (Sorge). Показать, как именно бытие-к-смерти конституирует целостность Dasein'а.
Комментарий читателя: После методологической чистки в §49 Хайдеггер наконец переходит к сути. Мне важно помнить, что он описывает не событие, а саму структуру моего существования. Речь идет о том, как я уже сейчас существую, зная (пусть и беготно), что я смертен.
Шаг 1: Смерть как «Забегание-вперед» (Sich-vorweg) к собственной возможности
Я, как Dasein, – это не вещь, а возможность. Моё бытие – это постоянное «уже-бытие-в-мире» как «забегание-вперёд-к». Смерть – это не что-то внешнее, что со мной случится, а предельная и самая собственная возможность моего бытия.
Хайдеггер дает смерти три определяющих характеристики:
1. Собственнейшая (eigenste) возможность: Смерть всегда моя. Её нельзя переложить на другого, делегировать или пережить за меня. В смерти я радикально индивидуализирован. Она обнажает моё бытие как мое собственное (Jemeinigkeit).
2. Несоотносимая (unbezügliche) возможность: Вступая в отношение к собственной смерти, я разрываю все свои обыденные «соотнесения» (Bezüge) с миром заботы (Besorgen) и с другими (Fürsorge). Перед лицом смерти всё это теряет свою значимость. Смерть – это возможность бытия-в-мире как такового, а не бытия-при-внутримирном-сущем.
3. Непревзойдённая (unüberholbare) возможность: Это возможность, beyond которой нет других возможностей. Это возможность самой невозможности бытия-в-мире. Я не могу «обогнать» свою смерть, пережить её и двигаться дальше. Она – абсолютный предел и horizon всех моих возможностей.
Размышление читателя: Это ключевой момент. Вся экзистенциальная структура, которую Хайдеггер описывал ранее – забота, вина, решимость – теперь оказывается модусом именно этого бытия-к-концу. Моя временность – это не просто «течение времени», а напряжение между моим заброшенным «здесь-и-сейчас» и этим предельным горизонтом, который придает всем моим проектам окончательность и вес. Не «у меня есть время», а «я есмь время», и это время конечно. Это переворачивает всё с ног на голову.
Вывод для читателя: Смерть – это не событие в будущем, а то, к чему я уже нахожусь в отношении. Я есмь свое бытие-к-смерти. Это не пассивное ожидание, а активное (хотя чаще всего беготное) принятие этой возможности как конституирующей моё бытие.
Шаг 2: Смерть и структура заботы: Экзистенциальность, Фактичность, Падение
Бытие-к-смерти раскрывается через все три модуса заботы:
· Как Sich-vorweg (Забегание-вперёд – экзистенциальность): Смерть – это самая крайняя точка, в которую я забегаю вперед. Моё бытие – это проект, устремленный к собственному концу. Это не биологический конец, а ** horizon понимания**, который придает смысл всем моим меньшим проектам.
· Как Schon-sein-in… (Уже-бытие-в… – фактичность): Я заброшен в это бытие-к-смерти. Я уже нахожусь в отношении к смерти, хочу я того или нет. Это не я «приобрёл» это отношение; оно дано мне вместе с самим фактом моего существования. Это раскрывается в фундаментальном настроении ужаса (Angst). Ужас – не страх перед чем-то конкретным (например, перед болью умирания – это страх), а ужас перед самим бытием-в-мире, перед моей собственной конечностью как свободой быть.
· Как Sein-bei… (Бытие-при… – падение): Поскольку ужас перед этим осознанием невыносим, я, как Dasein, бегу от него. Я погружаюсь в повседневность мира «Man», где смерть – это просто «случай», который всегда происходит с другими, а не со мной. Это «незнание» о смерти – не отсутствие информации, а экзистенциальный способ бытия: бегство от собственной возможности.
Комментарий читателя: Вот оно! Триада заботы теперь обретает свой полный, экзистенциальный смысл.
· «Забегание-вперёд» – это не просто планирование отпуска, это мой побег ВПЕРЁД, к концу, который придает смысл всем маленьким «вперёдам».
· «Заброшенность» – это не просто факт моего рождения в такой-то стране, это моя заброшенность в ситуацию СМЕРТНОСТИ. Я приговорен к смерти с момента рождения.
· «Падение» – это не просто отвлечение на соцсети, это фундаментальный механизм бегства ОТ этого ужасающего знания в болтовню «Man» о смерти.
Ужас (Angst) – это не психология, а онтология. Это способ, каким моя собственная конечность заявляет о себе, прорываясь через повседневность. Это чувство, что земля уходит из-под ног, потому что все привычные опоры (работа, семья, статус) в свете смерти оказываются условными. Они есть, но их значимость держится на том, что я её придаю, будучи смертным.
Вывод для читателя: Бытие-к-смерти – это не часть заботы, а сама забота в её тотальности и целостности. Забота есть бытие-к-концу. Именно поэтому забота может быть онтологической основой целостности Dasein'а: она изначально и необходимо включает в себя свой конец как конституирующую возможность.
Шаг 3: Итог: Смерть как основание целостности
Целостность Dasein'а – это не сумма всех его «моментов» от рождения до смерти. Это бытие-целым-в-становлении. Я могу быть целостным не тогда, когда я «завершен» (это невозможно, так как с завершением меня нет), а только когда я полностью принимаю свою конечность и проецирую себя на свою самую собственную возможность – смерть.
Только осознавая, что моё время конечно и что мои возможности не бесконечны, я могу решительно (это тема следующих параграфов) выбрать себя, взять на себя ответственность за свою жизнь и придать ей подлинность (Eigentlichkeit).
Заключительное размышление читателя: Теперь ясно, почему это «сердцевина». Вся экзистенциальная аналитика вела к этому. Временность Dasein'а – это не нейтральный поток, а напряженное, конечное бытие-к-смерти. Забота – это временность. Совесть – это зов этой конечности. Решимость – это ответ на этот зов.
Целостность – это не итог, а способ жизни. Жить целостно – значит жить, постоянно держа в виду свой конец не как угрозу, а как то, что делает мою жизнь моей, уникальной и невозможной для повторения. Смерть делает жизнь жизнью, а не просто биологическим процессом. Без этого горизонта конечности все мои проекты были бы лишены окончательной серьезности, они могли бы быть отложены «на потом». Бытие-к-смерти придает им urgency – срочность и настоятельность.
Хайдеггер предлагает не этику, а онтологию. Он не говорит «помни о смерти, чтобы хорошо себя вести». Он говорит: «ты уже всегда помнишь о смерти (беготно), и это "помняние" есть структура твоего бытия; осознай её, и ты поймешь, что значит быть собой».
Таким образом, §50 – это философский прорыв. Хайдеггер показывает, что именно смерть, понятая экзистенциально, делает временность Dasein'а конечной и, следовательно, делает возможной его целостность как протяженного во времени существа, понимающего свой бытие.
§ 51. «Бытие-к-смерти и повседневность присутствия»[Изложение и анализ параграфа 51 «Бытие-к-смерти и повседневность присутствия» с точки зрения читателя, пытающегося понять текст через призму временности как основы бытия Dasein.]
Читая этот ключевой параграф, я осознаю, что Хайдеггер здесь проводит тончайший феноменологический анализ того, как обычный человек, погруженный в повседневную рутину, справляется с самым экзистенциально пугающим фактом своего существования – собственной смертью. Он показывает, что наше повседневное отношение к смерти – это не просто неведение, а активный, систематический процесс уклонения и сокрытия.
Толкование: Бегство «Man» от смерти.
Хайдеггер начинает с напоминания: повседневное бытие человека – это бытие в модусе «Man» (небезличное «люди», «все»). Это обезличенная публичная реальность, которая диктует нам, что и как думать, через язык, сплетни («Gerede») и общепринятые толкования.
Как «Man» интерпретирует смерть?
1. Смерть как «случай». В публичном пространстве смерть известна лишь как постоянно случающееся событие – «летальный исход». Умирают «другие»: соседи, знакомые, незнакомцы в новостях. Это что-то внешнее, что случается где-то там, но не со мной лично. Она теряет свой уникальный характер и становится рядовым, неприметным явлением мира.
2. Формула «все умирают». Ключевая фраза – «man stirbt» («все умирают» или «помирают»). Её двусмысленность, по Хайдеггеру, гениальна и ужасна. С одной стороны, это констатация факта. С другой – это мощнейший механизм самообмана. Говоря «все умирают», я подсознательно добавляю: «но не сейчас и не со мной». Смерть превращается в нечто неопределенное, что когда-нибудь наступит, но пока не представляет угрозы. Она касается безличного «Man», а значит, Никого. Таким образом, моя собственная, самая личная возможность – возможность моего не-бытия – отчуждается от меня и делается безличной.
Рефлексия: Читая это, я не могу не признать, что это поразительно точное описание. Мы действительно так живем. Новости о катастрофах, смерти знаменитостей, разговоры о болезнях – мы потребляем смерть как информацию, но отстраняем её от себя. Мы знаем, что «все смертны», но это знание абстрактно, оно не экзистенциально, не затрагивает нас глубоко. Хайдеггер называет это «искушением» – искушением спрятаться за спины «всех» и забыть о своей единоличной ответственности умереть.
Забота как утешение и отчуждение
Далее Хайдеггер делает еще более жуткое наблюдение. Это отчуждение проникает даже в моменты, когда смерть ближайшего человека должна была бы обнажить её ужасающую истину. Но «Man» и здесь находит способ сохранить иллюзию.
«Утешительная» забота. Родные и близкие у постели умирающего часто говорят ему: «Ты поправишься», «Все будет хорошо», «Борись». Эта кажущаяся забота («Fürsorge») на самом деле является формой успокоения – но не умирающего, а самих себя. Мы хотим вернуть умирающего в наш общий, спокойный, повседневный мир, мы хотим закрыть глаза на его самую главную экзистенциальную возможность – возможность принять свою смерть. Мы отнимаем у него его собственнейшую возможность бытия, подменяя её нашей общей иллюзией.
Рефлексия: Эта часть текста заставляет меня почувствовать глубокий дискомфорт, потому что она обнажает наши социальные ритуалы, направленные на отрицание смерти. Смерть другого становится почти что «бестактностью», нарушающей наш повседневный порядок. Хайдеггер показывает, что такая «забота» – это на самом деле инструмент отчуждения Dasein от его подлинного self.
Подавление Angst через Furcht
Важнейшее различие, которое проводит Хайдеггер, – это различие между страхом (Furcht) и тревогой (Angst).
· Страх всегда имеет предмет: я боюсь конкретной опасности (аварии, болезни, нападения).
· Тревога (Angst перед смертью) – это страх ни перед чем, это ужас перед самим Ничто, перед моей собственной возможностью не-быть.
«Man» не выносит этой фундаментальной тревоги. Поэтому публичное толкование подменяет Angst на Furcht. Думать о смерти (в экзистенциальном смысле) считается трусостью, слабостью, мрачным пессимизмом. Что «положено»? – Проявлять «превосходное безразличие» к «факту», что «все умирают». Настоящая мужественная тревога перед собственным концом подавляется и заменяется либо страхом перед конкретным событием, либо полным безразличием.
Вывод: Бегство как свидетельство
И здесь читатель приходит к главному парадоксу, который открывает Хайдеггер. Это постоянное, активное, повседневное бегство от смерти – это не что иное, как модус самого бытия-к-смерти. Мы убегаем от смерти именно потому, что мы изначально есть бытие-к-смерти. Само наше бегство – это феноменологическое доказательство того, что смерть есть наша сокровеннейшая, неустранимая и неперешагиваемая возможность. Даже в самом безразличном существовании Dasein постоянно «имеет дело» со своей смертью – именно тем, что отчаянно старается о ней не думать, замалчивает и подменяет её.
Итоговая рефлексия: Этот параграф – не просто описание человеческой трусости. Это фундаментальный шаг к пониманию временности. Подлинное бытие-к-смерти, которое Хайдеггер будет раскрывать далее, – это не morbid fixation на конце, а, как пишут комментаторы, осознание своей конечности как условия возможности вообще иметь целостное бытие. Только осознав, что моё время конечно и что я могу умереть в любой момент, я могу перестать откладывать жизнь на потом и начать существовать решительно и подлинно, принимая на себя ответственность за свою уникальную, временную жизнь. Повседневное бегство от смерти – это неподлинный модус временности, где будущее как «конец» постоянно откладывается и заслоняется настоящим. Подлинная временность рождается из мужественного принятия этого конца как конституирующей возможности моего бытия.
Трактовки и библиографические источникиЗарубежные специалисты:
1. Хубертус Дрейфус (Hubert L. Dreyfus) в своей классической работе «Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I» подробно разбирает концепцию «Man» и его механизмы отчуждения. Он подчеркивает, что бегство от смерти – не психологическая слабость, а онтологическая структура неподлинного существования.
2. Уильям Блоссфельд (William Blattner) в «Heidegger's 'Being and Time'» акцентирует внимание на связи бытия-к-смерти и временности. Он показывает, что анализ повседневного отношения к смерти необходим Хайдеггеру именно для того, чтобы контрастно выявить подлинное понимание смерти как предела, организующего временную структуру заботы.
3. Стивен Малдун (Stephen Mulhall) в «Routledge Philosophy GuideBook to Heidegger and Being and Time» обращает внимание на языковые игры Хайдеггера (например, «man stirbt») как на ключ к пониманию того, как язык «Man» искажает экзистенциальные реалии.
Отечественные специалисты:
1. Владимир Бибихин в работе «Дело Хайдеггера» и в своем переводе «Бытия и времени» дает глубокие комментарии. Он переводит «Man» как «Люди» и раскрывает этот феномен как форму безличной власти публичности, которая лишает человека его собственного голоса, в том числе и в вопросе смерти.
2. Михаил Маяцкий в различных статьях и лекциях часто обращается к Хайдеггеру. Он анализирует «бытие-к-смерти» как форму радикальной индивидуализации, которая вырывает Dasein из власти «Man» и заставляет его стать самим собой.
3. Татьяна Щитцова в своих исследованиях (например, «Событие и смерть: К критике онтологических оснований понятия события у Хайдеггера») рассматривает смерть не просто как конец, но как событие, которое придает уникальность и целостность всей жизни Dasein, структурируя его временность.
Таким образом, § 51 является критикой неподлинного существования, но критикой, которая через негатив (бегство) показывает позитив (истинную природу бытия-к-смерти как основы временности и, следовательно, самой экзистенциальной структуры Dasein).
§ 52. «Повседневное бытие-к-концу и полное экзистенциальное понятие смерти».Если предыдущий параграф был критическим анализом того, как «Man» уклоняется от смерти, то этот параграф – это попытка прорваться сквозь это уклонение к подлинному экзистенциальному понятию смерти. Хайдеггер действует как детектив: он изучает следы, которые само бегство оставляет на месте преступления, чтобы восстановить облик того, от чего бегут. Он делает это через анализ двух ключевых характеристик смерти, которые даже в искаженной форме признаются в повседневности: её достоверность и неопределённость.
Достоверность смерти: не эмпирический факт, а экзистенциальная уверенность
Хайдеггер начинает с того, что заявляет: «Man» формально признает, что смерть достоверна («все умирают»). Но эта «достоверность» – подделка. Она основана на статистике и наблюдении за смертями других («эмпирическая достоверность»). Это знание о смерти как о внешнем факте, который случается с другими и когда-нибудь случится со мной.
Рефлексия: Здесь Хайдеггер проводит фундаментальное различие, которое я как читатель нахожу крайне важным. Есть разница между знанием о смерти (как о биологическом факте) и экзистенциальной уверенностью в своей смерти. Первое – это информация, которую я могу принять или игнорировать. Вторая – это онтологическая константа моего бытия, которая структурирует всё моё существование, нравится мне это или нет. «Man» цепляется за первое, чтобы избежать второй.
Повседневное сознание даже пытается быть «критичным», заявляя, что смерть «всего лишь» highly probable, но не абсолютно достоверна, как, например, математическая истина. Для Хайдеггера это чудовищное заблуждение, проистекающее из непонимания самой природы Dasein. Достоверность смерти – это не теоретическая (аподиктическая) достоверность, а экзистенциальная уверенность (Gewißsein), которая является модусом бытия Dasein. Я есть бытие-к-смерти, а не просто знаю, что умру. Эта уверенность не нуждается в эмпирических доказательствах; она предшествует им.
Неопределённость «когда»: не недостаток знания, а сущностная черта
Второй момент – это неопределенность момента смерти. «Man» справляется с этой тревожной неопределенностью, откладывая её: «смерть достоверна, но пока ещё нет». Это «но пока ещё нет» – не безобидная констатация, а активная стратегия. Оно отсылает Dasein к миру повседневных забот, которые кажутся определенными и управляемыми. Мы заменяем экзистенциальную неопределенность смерти на практическую определенность дел, которые нужно сделать «прямо сейчас».
Рефлексия: Это, пожалуй, самый пронзительный insight параграфа. Мы строим графики, планы на год, копим на пенсию, живём в иллюзии, что будущее протянется перед нами долго и predictable. Но подлинная экзистенциальная истина в том, что смерть возможна в любой момент. Её «когда» не просто неизвестно – оно не может быть известно по своей сути. Эта неопределенность – не недостаток нашего знания, а положительная, конституирующая черта самой смерти как возможности. Признать это – значит жить в постоянном осознании хрупкости и конечности.