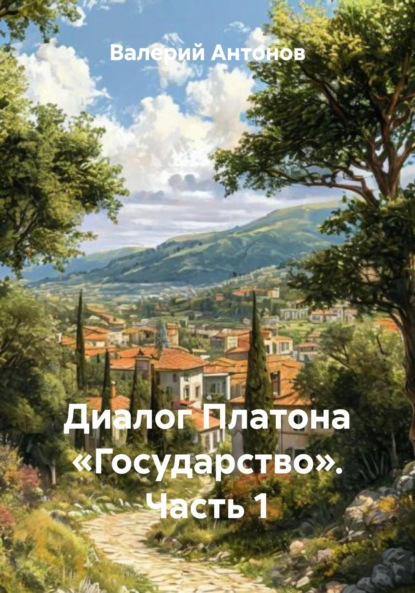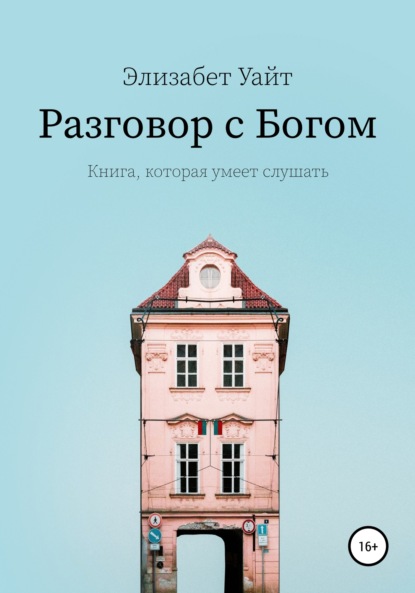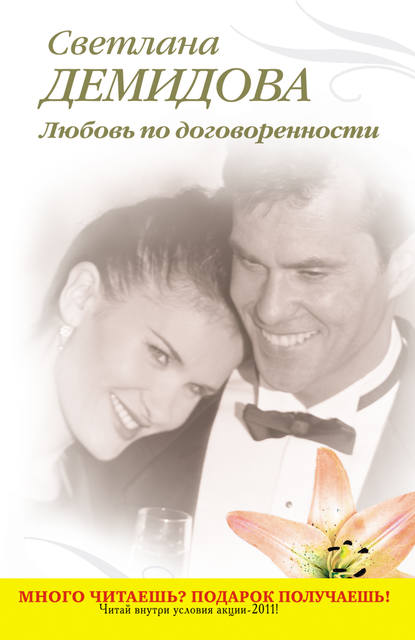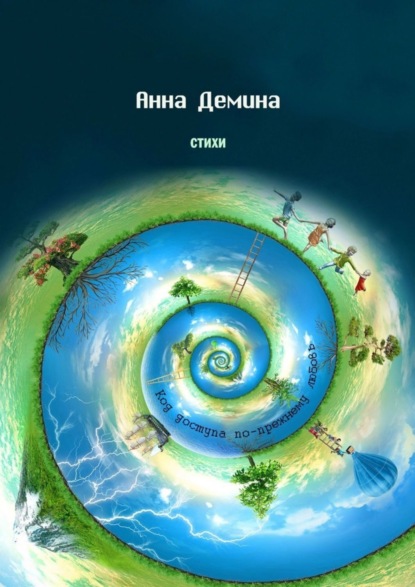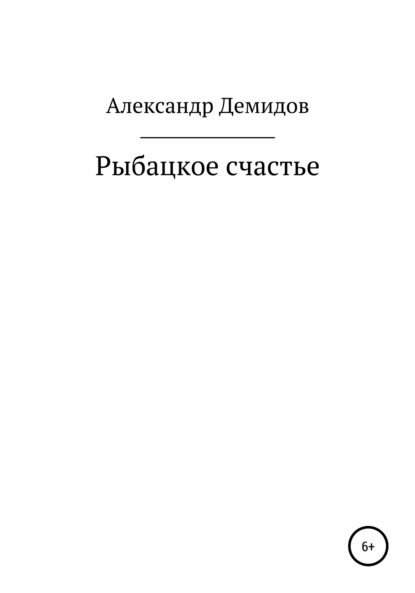- -
- 100%
- +
Главный тезис
«Государство» Платона представляет собой не сборник разрозненных идей, а целостное органическое произведение. Его художественные детали, мифы и философские аргументы подчинены единому замыслу, раскрывающему связь между справедливостью личности, идеальным государством и устройством космоса. Ключ к пониманию этого замысла лежит в правильном истолковании связи между «Государством», «Тимеем» и «Критием», а также во внутренней логике самого диалога, построенной по принципу живого организма, сформулированному в «Федре» (264c).
Основные аргументы и их объяснение
1. Свидетельство «Тимея» как ключ к пониманию «Государства»
Начало диалога «Тимей» предоставляет нам уникальный и авторитетный ключ к интерпретации замысла «Государства». Это не просто формальная связка между двумя произведениями, а сознательно выполненное самим Платоном ретроспективное резюме, которое высвечивает главные акценты в колоссальном материале предыдущего диалога.
Оригинальный текст и перевод
Тимей 17a-19a (ключевые фрагменты):
17c: … εἰς μέσον αὖ θῶμεν τὴν ἐχθὲς πολιτείαν, λέγω δὴ ἣν ἐκεῖνος διεξῄει, ὡς ἄν μοι δοκεῖ γενέσθαι παραλαβών τινας αὐτῆς οἷον εἰκόνας.
«… выведем опять на середину вчерашнее государство, то, которое он [Сократ] излагал, каким, по моему мнению, оно должно быть; приняв его как бы за образец…»
18a-b: Μία μὲν δὴ διοίκησις καὶ μία σύνταξις ἦν τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν ἐν παιδεία τε καὶ ἐν τροφαῖς καὶ ἐν τοῖς κατὰ πόλεμον παιδοποιία τε αὖ καὶ κύησις, ὡς ἐν τῷ πάρως λόγῳ διῄει, κοινή…
«Один был порядок и один строй как для мужчин, так и для женщин в воспитании и в питании, и в том, что касается войны, а также в деторождении и рождении, как он излагал вчера в беседе, общий…»
19a-b: Ὡς οὖν ἄν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἡ πολιτεία ἐξ οἵων ἀνδρῶν συστᾶσα τά τε αὑτῆς ἔργα εὖ πράττοι καὶ τἆλλα πόλεως ὄντα καλῶς διαποιοῖ, σχεδὸν ὅσα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν διήλθομεν, θαυμάσι' ἄν ἐργάζοιτο.
«Итак, Сократ, – сказал он [Тимей], – если бы государство, состоящее из таких мужей, хорошо выполняло свои собственные задачи и прекрасно справлялось бы с остальными делами, присущими полису, о которых мы в основном говорили ранее, оно творило бы чудеса».
19b: Καὶ νῦν οὐχ ἧττον ἐπαινοῦμέν σοι πάντα ἃ τότε ἔλεγες περὶ αὐτῆς…
«И сейчас мы ничуть не меньше хвалим тебя за все, что ты тогда говорил о нем…»
«Тимей» как ориентир: анализ сознательной избирательности
Резюме, которое Сократ предлагает в начале «Тимея», является не кратким пересказом всего диалога, а сознательно сфокусированным синопсисом. Это «вчерашнее государство» представлено в его идеальной, статичной сущности, очищенной от многих драматических и критических элементов, составляющих ткань «Государства». Эта избирательность служит четкой цели: выделить структурное ядро проекта.
1. Акцент на «качестве людей» (ἐξ οἵων ἀνδρῶν). Это самый важный момент. Тимей (озвучивая общее мнение собравшихся) хвалит Сократа не за детальный анализ пяти форм правления и не за критику поэзии, а за описание государства, основанного на определенном типе людей. Фраза «из каких мужей» оно состоит становится лейтмотивом резюме. Это прямо указывает, что для Платона первичным является не архитектура институтов, а антропологический фундамент – характер, воспитание (παιδεία) и знание правителей.
2. Что включено в резюме? Сократ кратко упоминает ключевые черты идеального полиса, которые непосредственно связаны с формированием этих «мужей»:
Общность для стражей (мужчин и женщин) в воспитании, образе жизни и военном деле.
Отмена частной собственности у сословия стражей.
Особые правила деторождения (евгеника).
Эти элементы представлены как данность, как описание готовой модели.
3. Что намеренно опущено? За пределами резюме остаются фундаментальные для «Государства» темы, которые носят критический, негативный или метафизический характер:
Весь диалектический путь к идее: опущена вся первая книга с ее апориями, спор с Фрасимахом, демонстрирующий необходимость построения государства «в речи».
Теория деградации государств (Книги VIII-IX): Отсутствует пессимистический анализ того, как идеальное государство неминуемо вырождается в тимократию, олигархию, демократию и тиранию. В «Тимее» модель берется в ее идеальной, незапятнанной временем форме.
Критика поэзии (Книга X): Проблема мимесиса и изгнание поэтов, столь важная для очищения воспитания, не упоминается.
Миф об Эре: Завершающий экзистенциальный миф, придающий личностный, этический вес всей конструкции, также остается за кадром.
Вывод: Практический идеал и единый цикл
Эта избирательность – не ошибка памяти Сократа, а философский и литературный прием. Она показывает, что в «Тимее» и «Критии» Платона интересует не внутренняя критика или обоснование модели, а ее практическое испытание. Желание Сократа «увидеть это государство в движении» – в конфликте с другими государствами (как в замысле «Крития») – означает, что проект обладает претензией на реализуемость.
Таким образом, три диалога – «Государство», «Тимей», «Критий» – образуют единый триптих:
· «Государство» – это теоретический фундамент, диалектическое построение идеала со всеми его онтологическими и критическими обоснованиями.
· «Тимей» (через свое введение) – это мост, который выделяет из теории ее социально-антропологическое ядро: модель и, главное, тип человека, необходимый для ее жизни.
· «Тимей» (космология) и «Критий» (история) – это попытка применения, проверка идеала на прочность в контексте космического порядка и исторического противоборства.
Следовательно, резюме в «Тимее» позволяет нам понять, что сам Платон рассматривал политическую модель «Государства» не как утопию для созерцания, а как проект, чья реализация возможна только при условии создания нового типа человека – философа-стража, чье воспитание является центральной темой всего диалога.
2. Сознательная избирательность резюме в «Тимее»: Философский прием, а не забывчивость
Утверждение, что Сократ в своем резюме просто «забыл» ключевые части «Государства», не выдерживает критики при внимательном чтении. Платон, как мастер диалектики и композиции, использует эти пропуски не как пробел, а как мощный риторический и философский инструмент. Его цель – совершить редукцию грандиозного и сложного целого к его сущностному ядру, отбросив все вспомогательные, критические и завершающие элементы. Эта селекция позволяет подготовить почву для нового типа повествования в «Тимее» и «Критии» – не теоретико-политического, а практико-космологического.
Рассмотрим, что именно опускается в кратком пересказе. За его рамками остается практически все, что составляет диалектическую плоть «Государства»: вся апорийная Книга I с ее спором с Фрасимахом, создающая интеллектуальный вакуум и доказывающая необходимость построения государства «в речи»; пессимистическая теория деградации государств из Книг VIII-IX, показывающая хрупкость идеала перед лицом человеческой природы; грандиозное метафизическое обоснование власти философов через аллегорию Пещеры и идею Блага в Книгах VI-VII; фундаментальная критика поэзии и мимесиса в Книге X, служащая очищению воспитательной среды; и, наконец, экзистенциальный миф об Эре, замыкающий круг и придающий личностный, этический вес всей конструкции.
Эта радикальная фильтрация отнюдь не случайна. Она служит четкой и ясной цели: сместить фокус с вопроса «что такое справедливость?» (центральная тема «Государства» как трактата о δίκαιον) на вопрос «кто творит справедливость?». Платон через уста Тимея прямо указывает на это, формулируя квинтэссенцию резюме: «…государство, состоящее из таких мужей (ἐξ οἵων ἀνδρῶν), хорошо выполняло бы свои собственные задачи… оно творило бы чудеса» (Тимей, 19a-b). Резюме отфильтровывает все, что не относится напрямую к созданию и характеристике этих самых «мужей». Так, теория деградации – это лишь следствие порчи качества людей у власти; метафизика – часть их воспитания (παιδεία); критика поэзии – инструмент формирования правильного нрава (ἦθος); а миф об Эре – итоговое испытание для индивидуальной души, уже прошедшей этот путь. Таким образом, «Тимей» актуализирует «Государство» не как законченную теорию, а как проект по созданию нового антропологического типа. Опуская деградацию, Платон предлагает нам на время забыть о неизбежности упадка и посмотреть, как идеал может действовать. Опуская миф об Эре, он переводит разговор с посмертной судьбы отдельной души на историческое деяние коллектива таких душ, что и планировалось показать в «Критии».
Этот прием глубоко созвучен общему методу Платона. Это диалектическое «забвение», позволяющее сменить перспективу, подобно тому как в «Пире» каждое новое определение Эроса подготавливает синтез Диотимы. Кроме того, само резюме становится «живым существом» по критерию «Федра» (264c), обладая собственной целью: быть не копией, а сфокусированным проекцией «Государства», пригодной для перехода к натурфилософии и истории. Следовательно, сознательная избирательность – это не недостаток, а интерпретационный ключ. Она демонстрирует, что для самого Платона центральным результатом «Государства» была не отвлеченная теория, а антропологическая модель: описание условий воспитания тех людей, чье существование является единственным залогом воплощения политического идеала. Все остальное – будь то онтология, критика искусства или анализ упадка – является либо средством для достижения этой цели, либо описанием следствий ее недостижения.
3. Практический идеал: Триптих «Государство» – «Тимей» – «Критий» как единый цикл
Утверждение, что проект «Государства» является чисто умозрительной утопией, опровергается самим Платоном в начале «Тимея». Ключевым доказательством служит активная позиция Сократа, который не просто подводит итоги вчерашней беседы, но и выражает конкретное желание увидеть теоретическую модель в действии.
1. Желание Сократа: От статичной модели к живому действию
Вскоре после резюме Сократ произносит фундаментально важные слова, раскрывающие его замысел:
«Тимей, 19b-c: … Мне чувствуется то же, что и поэтам, когда их творение им кажется в какой-то мере завершенным. Мне очень хочется, чтобы наше государство, основанное на словах, сошло с места и пришло в движение (κινεῖσθαι). Мне хотелось бы услышать, как оно ведет себя в достойных его битвах и как в этих битвах оно совершает подобающие ему дела на войне и в сношениях с другими государствами, действуя так, как должно, и соответственно поступая и говоря».
(В пер. С.С. Аверинцева: «…мне очень хотелось бы посмотреть, как наше государство вступает в состязание (ἀγωνίζεσθαι) с другими… как оно ведет себя в войне и в военных столкновениях с другими государствами, и как в ходе этих столкновений оно действует так, как подобает, – и в делах, и в речах»).
Эта фраза – прямой мост от теории к практике. Сократ использует яркие, «жизненные» метафоры:
· «Сойти с места и прийти в движение» (κινεῖσθαι): Это противопоставление статичной, построенной «в речи» (λόγῳ) модели – живому, динамичному организму. Государство должно не просто существовать как схема, а функционировать.
· «Достойные его битвы», «сношения с другими государствами»: Это признание того, что идеальный полис существует не в вакууме, а в реальном мире, полном конфликтов, дипломатии и испытаний. Его совершенство должно быть проверено на прочность в столкновении с внешней средой.
Таким образом, сам Сократ указывает на недостаточность одного лишь теоретического построения. Идеал должен доказать свою жизнеспособность.
2. Ответ Платона: Три диалога как три акта единой драмы
Желание Сократа не остается без ответа. Платон выстраивает грандиозный замысел, который современные исследователи называют «Атлантическим циклом» или триптихом:
1. «Государство» (Πολιτεία) – Теоретический фундамент.
o Роль: Это «строительные чертежи» идеального полиса. Диалог отвечает на вопросы почему и как: почему нужны философы-цари, как должно быть устроено воспитание, что такое справедливость.
o Метод: Чистая диалектика, построение в логосе. Это необходимая стадия, без которой любое практическое действие было бы слепым.
2. «Тимей» (Τίμαιος) – Космологическое обоснование.
Роль: Прежде чем показать государство в историческом действии, Платон помещает его в контекст мироздания. Рассказ Тимея о творении Космоса Демиургом задает онтологический масштаб. Идеальное государство – это не произвольная выдумка, а земное подобие («подражание») упорядоченного и разумного Космоса.
Связь: Если в «Государстве» гармония души и полиса аналогична гармонии Космоса, то «Тимей» показывает саму эту космическую гармонию. Таким образом, проект получает трансцендентное оправдание. Философ-правитель, познавший идеи, подобен Демиургу, упорядочивающему хаос.
3. «Критий» (Κριτίας) – Историческое воплощение и испытание.
o Роль: Это и есть прямое исполнение желания Сократа – «увидеть государство в достойных его битвах». В незаконченном диалоге Критий рассказывает легенду о древних Афинах, которые воплощали в себе черты идеального государства из «Государства», и их противостоянии агрессивной морской державе Атлантиде.
Смысл: Платон не просто описывает абстрактную войну. Он показывает:
§ Как аристократический принцип (древние Афины, управляемые мудрыми стражами) противостоит имперскому, тираническому принципу (Атлантида, чьи правители, изначально добродетельные, выродились из-за алчности и гордыни).
§ Что идеальное государство не непобедимо абстрактно, а уже имело исторический прецедент и доказало свою доблесть.
§ Что его гибель (в платоновском мифе Афины погибают в катастрофе, а Атлантиду поглощают воды) связана не с внутренними пороками, а с внешними, космическими катаклизмами. Это отличает его от вырождающихся государств в «Государстве», которые гибнут из-за внутренней испорченности.
3. Единый замысел: От теории к практике через космос
Три диалога образуют нисходящую линию от абстрактного к конкретному:
· Уровень Идеи («Государство»): Справедливость как таковая, ее логическая структура.
· Уровень Космоса («Тимей»): Справедливость как мировой закон, воплощенный в упорядоченной вселенной.
· Уровень Истории («Критий»): Справедливость как действующая сила в конкретном политическом событии.
Вывод: Желание Сократа увидеть государство «в движении» доказывает, что платоновский проект – это не уход от реальности в мир грез. Напротив, это амбициозная попытка преобразовать реальность согласно разуму. «Государство» предоставляет теоретический фундамент и цель – образ совершенного полиса. «Тимей» дает этому образу космическое измерение и оправдание. А «Критий» (в замысле) должен был показать его практическую реализуемость и устойчивость в условиях реального мира. Разрыв между идеалом и реальностью преодолевается не их смешением, а через демонстрацию того, что идеал уже был реальностью в прошлом и, следовательно, может быть ею again в будущем, если будет воссоздан тот же тип людей – воспитанных в духе философской παιδεία.
4. Органическое единство «Государства» (Принцип из «Федра»)
Для понимания композиции «Государства» принципиально важен критерий, который Сократ выдвигает в диалоге «Федр» для оценки любого грамотного произведения:
«Федр, 264c: Во всяком случае, всякая речь должна быть составлена, словно живое существо (ζῷον) – у нее должно быть тело с головой и ногами (σῶμα ἔχουσα ἑαυτῆς τὴν τοῦ τε ἀρχομένου καὶ τελευτῶντος); при этом туловище и конечности должны быть подогнаны друг к другу и составлять единое целое (πρέπον ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ)».
Этот принцип – не просто формальное требование к стилю, а фундаментальный закон платоновской диалектики, согласно которому истина раскрывается не в разрозненных утверждениях, а в целостной, логически выстроенной структуре. «Государство» является блестящим воплощением этого принципа, где каждая часть выполняет свою уникальную функцию, будучи неразрывно связанной с целым.
Голова (Начало): Книга I как философский пролог
Книга I – это не просто введение или экспозиция; это «голова» организма, где задается основной вопрос и закладываются ключевые темы, которые получат развитие во всем теле диалога.
· Центральный вопрос: Диалог начинается с, казалось бы, частного вопроса: «Что такое справедливость (δικαιοσύνη)?» (I, 331c). Однако этот вопрос сразу же приобретает экзистенциальную глубину благодаря фигуре Кефала.
· Ключевая тема воздаяния: Уходя принести жертву, Кефал произносит знаменательные слова, связывающие спокойную старость с чистой совестью перед богами:
«Государство, I, 330d-331b: Когда умирающий начинает думать, что уж близко ему предстать перед владыкой загробного мира, его охватывает страх и забота, которых он не знал прежде. Не насмехался ли он над рассказами о загробном воздаянии? А теперь его терзает мысль: а что, если это правда?»
Эта тема посмертного воздаяния (ἡ ἐν Ἅιδου δίκη) – не бытовая деталь, а философский катализатор. Она ставит вопрос о справедливости в контекст всей человеческой жизни и ее конечных смыслов. Эта тема, поднятая здесь, в «голове», найдет свои «ноги» только в мифе об Эре в Книге X, создавая мощную композиционную арку.
· Диалектическая подготовка: Далее, в спорах с Полемархом и Фрасимахом, Сократ последовательно опровергает обыденные (doxa) и циничные представления о справедливости. Это не просто критика, а «очистительная» работа, создающая интеллектуальный вакуум, который требует построения новой, позитивной теории. Книга I заканчивается апорией – признанием незнания. Но это не тупик, а точка отсчета для восхождения.
Середина (Развитие): Книги II-IX как «туловище» и основание
Если Книга I поставила вопрос, то Книги II-IX – это гигантское «туловище» организма, где разворачивается основное содержание, подчиненное единой логике.
· Расширение горизонта: Поскольку определить справедливость в индивидуальной душе оказалось трудно, Сократ предлагает рассмотреть ее «крупными буквами» – в структуре государства (II, 368c-369a). Этот методологический ход позволяет перейти от этики к политике, педагогике и, наконец, к метафизике.
· Последовательное построение: Логика развития неразрывна:
1. Книги II-IV: Строительство «здорового» государства, введение принципа разделения труда (ἕνα ἕκαστον ἔργον), воспитание стражей и определение трехчастной структуры души/государства (λογιστικόν / правители, θυμοειδές / стражи, ἐπιθυμητικόν / дельцы). Справедливость определяется как гармония частей, когда каждая выполняет свою функцию (IV, 433a-434c).
2. Книги V-VII: Углубление теории. Вводятся три «волны»: общность жен и детей, обязанность править для философов и, главное, метафизическое обоснование через теорию Идей. Аллегория Пещеры (VII, 514a-517a) – это сердцевина всего диалога, показывающая, что познание истины (Блага) является обязательным условием для управления государством.
3. Книги VIII-IX: Анализ несправедливости. Показывается обратный процесс – деградация форм правления (тимократия, олигархия, демократия, тирания) как следствие порчи человеческой души. Это необходимое диалектическое противопоставление, доказывающее преимущество справедливой жизни.
Таким образом, «середина» диалога – это единый, развернутый аргумент, где политика, психология и онтология переплетены в неразрывное целое.
Ноги (Завершение): Книга X как смысловая кульминация
Книга X часто кажется странным добавлением, но с точки зрения органического принципа она является абсолютно необходимой парой «ног», которая дает диалогу устойчивость и завершенность.
· Критика поэзии: Возвращение к теме изгнания поэтов (рассмотренной в Книгах II-III) здесь получает метафизическое обоснование. Поэт – творец «подражания подражанию» (т.е. копии чувственной вещи, которая сама есть копия Идеи), он стоит на третьей ступени от истины (X, 597e). Эта критика – не просто брюзжание, а последний штрих в создании защищенной воспитательной среды для стражей, очищенной от ложных образов.
· Миф об Эре: Замыкание круга. Здесь диалог возвращается к теме, заданной Кефалом в самом начале – теме смерти и воздаяния. Но теперь это уже не страх старца, а философски преображенный миф. После долгого пути через теорию государства и метафизику, душа получает не просто утешение, а рационально-мифологическое оправдание справедливости.
«Государство, X, 614b-621d: …душам было позволено выбрать себе новую жизнь… Не бог виновен в выборе, а избирающий сам виноват. <…> Пусть каждый уверует в это учение… и всегда будет стремиться к справедливости».
Миф об Эре – это итоговый ответ: быть справедливым выгодно не только в этой жизни (что было доказано в Книге IX), но и в вечной перспективе существования души. Это придает всей конструкции экзистенциальную завершенность.
Вывод: Композиция «Государства» строго следует органическому принципу. Книга I («голова») ставит жизненно важные вопросы. Книги II-IX («туловище») разрабатывают гигантскую, всеобъемлющую теорию, отвечающую на эти вопросы. Книга X («ноги») заземляет эту теорию, возвращая ее к исходной, но теперь обогащенной, экзистенциальной проблеме личного выбора и судьбы души, придавая всему произведению характер не просто трактата, а духовного руководства.
Книга I
Анализ Первой книги как «философского пролога»
Книга I представляет собой мастерски выстроенную экспозицию, где каждый диалог выполняет четкую диалектическую функцию.
Беседа с Кефалом. Сцена в доме благочестивого старца задает экзистенциальный тон. Его уход к жертвоприношениям символизирует переход от традиционной морали, основанной на обычае, к рациональному философскому поиску.
Анализ беседы с Кефалом в начале «Государства» Платона раскрывает глубинный экзистенциальный подтекст диалога, где сцена в доме благочестивого старца служит не просто экспозицией, а программным зачином, задающим тон всей последующей философской дискуссии. Уже сама атмосфера дома Кефала, куда Сократ спускается из Пирея, символизирует переходное пространство: это не агора и не гимнасий, а частное, почти сакральное место, где встречаются разные поколения и разные подходы к жизни. Кефал, «отец Лисия», предстает как воплощение традиционной, укорененной в обычае и религии морали. Его благочестие не является результатом философских раздумий; оно унаследовано и подтверждено долгой жизнью. Центральной темой его разговора со Сократом становится старость и подведение итогов жизни. Кефал цитирует поэта Софокла, который на вопрос о любовных утехах ответил: «Ἡδιστον μὲν ἐγώ σου ἀπεληλακέναι, ὧν ὥσπερ μαινομένου καὶ ἀγρίου δεσπότου ἀπέστης» («Я всего более рад, что ушел от этого, как от какого-то безумного и свирепого повелителя»). Эта цитата важна: она показывает, что для традиционного сознания добродетель часто понимается как избавление от страстей, а не как активное стремление к благу.
Однако Сократ ловко переводит беседу от описания старости к сущности самой добродетели, задавая ключевой вопрос: разве главное преимущество богатства не в том, что оно позволяет умирать спокойно, вернув долги и принеся положенные жертвы богам? Кефал с этим соглашается, формулируя тем самым традиционную этику справедливости как честности и исполнения религиозных предписаний: «τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστοις ἀποδιδόναι» («[справедливость] – это воздавать каждому должное»). Но это наивное, дологическое определение сразу же становится мишенью для сократической диалектики. Сократ ставит под сомнение абсолютность этого принципа с помощью гипотетического контрпримера: можно ли считать справедливым возвращение оружия другу, сдавшему его на хранение, если он впал в безумие? Этот вопрос обнажает ограниченность морали, основанной исключительно на обычае и буквальном соблюдении правил. Она не способна справиться с нравственными коллизиями, требующими разумного суждения.
Именно в этот момент кульминации диалога происходит символически значимый уход Кефала: «ἐπειδὴ ταῦτα ἀκούσας, “Ἄπιτε”, φησίν, “ὦ Σώκρατες, ἐπὶ τὰ ἱερὰ ὡς ἐγώ”» («Выслушав это, он сказал: “Ступайте, Сократ, а я к жертвоприношениям”»). Этот уход – не просто смена действующих лиц, а мощный философский жест. Кефал, представитель старшего порядка, уступает место своим сыновьям, Полемарху и Фрасимаху, с которыми и развернется основная дискуссия. Его отход к жертвоприношениям символизирует переход от традиционной морали, основанной на ритуале, авторитете и обычае (то, что греки называли «номос»), к рациональному философскому поиску универсального определения справедливости («логос»). Кефал исполняет свой религиозный долг, оставляя сыновей и Сократа разбираться с абстрактными понятиями. Таким образом, сцена выполняет двойную функцию: она вводит исходную, «досократическую» точку зрения на справедливость и тут же демонстрирует ее несостоятельность перед лицом критического разума.
Этот тщательно выстроенный философский пролог, где в неявном виде уже присутствует вся программа будущего исследования, мастерски избегает схематизма. Переход от конкретного опыта Кефала к абстрактному определению справедливости происходит не скачком, а через серию все более углубляющихся дискуссий, и его структура становится особенно ясна при обращении к тому, как Платон сам резюмирует содержание «Государства» в диалоге «Тимей». Очевидно, что среди исследователей существуют значительные разногласия относительно композиции и содержания книг «Государства», но поскольку лучшим истолкователем его собственных речений является он сам, ключ к пониманию архитектоники диалога лежит в его собственных словах. В начале «Тимея» Сократ напоминает собеседникам суть вчерашней беседы: «θέ που τῶν ὑπ’ ἐμοῦ ῥηθέντων λόγων περί πολιτείας ἦν τὸ κεφάλαιον, οἵα τε καὶ ἐξ οἵων ἀνδρῶν ἀρίστη κατεφαίνετ’ ἄν μοι γενέσθαι» («Главный смысл нашего вчерашнего разговора о государстве был таков: каким оно мне представляется наилучшим и из каких людей должно состоять», Tim. 17c). Далее, на вопрос, не упущено ли что-то, Тимей отвечает: «Οὐδαμῶς, ἀλλ’ αὐτά ταῦτα ἦν τὰ λεχθέντα, ὦ Σώκρατες» («Никоим образом, но сказано было именно это, Сократ», Tim. 19a). Эти слова не могут и не должны пониматься иначе: Платон через уста Сократа указывает, что квинтэссенцией проекта идеального государства является не детальное описание его институтов, а именно качество людей, его составляющих. Слова Сократа: «ἐξ οἵων ἀνδρῶν ἀρίστη κατεφαίνετ’ ἄν μοι γενέσθαι» отсылают не только к справедливости и идее блага, которые служат не столько частями государства, сколько его фундаментом, но и ко всем установлениям, признанным наилучшими, поскольку они направлены на формирование определенного человеческого типа. Эта мысль о первостепенной важности качества правителей и воспитания (παιδεία) является стержневой для всего проекта, что находит развитие и в других диалогах, например, в «Законах».