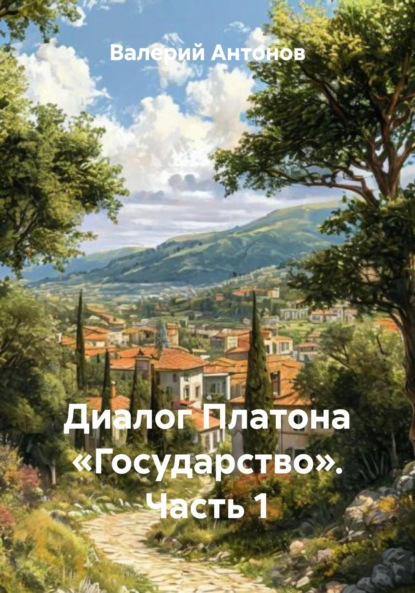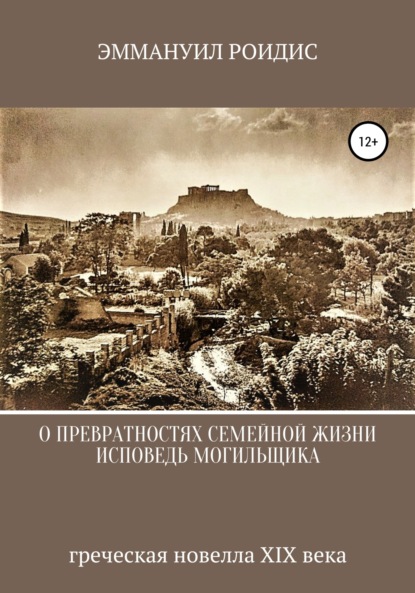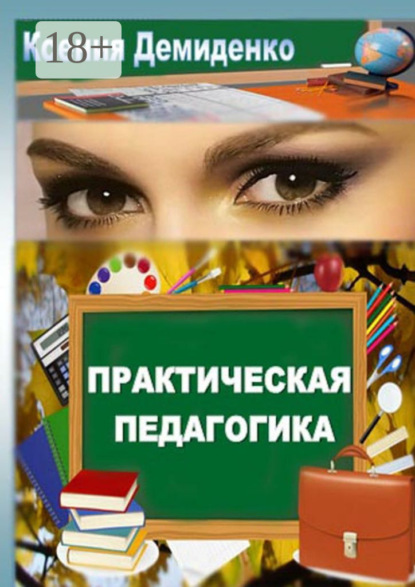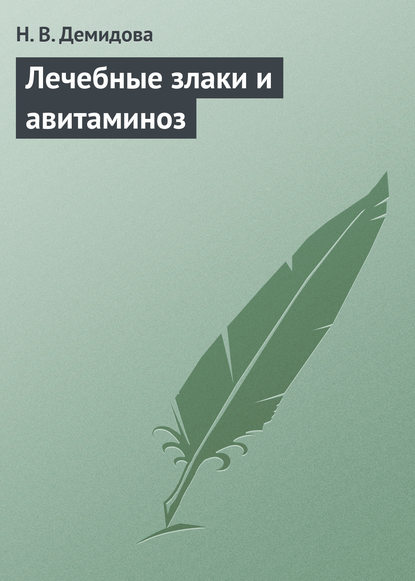- -
- 100%
- +
Таким образом, краткое резюме в «Тимее» фокусируется на главном условии – на качествах людей, а не на деталях устройства, что позволяет увидеть структурную ошибку в интерпретации некоторых комментаторов, например, Карла Моргенштерна, который утверждал, будто Платон очень подробно обсуждал вопросы справедливости именно в первых четырех книгах «Государства». Однако если внимательно сопоставить тезисы «вчерашней беседы», резюмируемые в «Тимее», с архитектоникой самого «Государства», становится очевидной неточность этого утверждения. Действительно, бо́льшая часть второй книги и вся третья книга посвящены не столько абстрактному анализу самой сущности справедливости (δικαιοσύνη), сколько детальному проектированию системы воспитания (παιδεία) стражей – их мусического и гимнастического образования. Это и есть та самая практическая основа, создающая почву для взращивания правильного нрава. Подлинное же метафизическое обоснование справедливости, связанное с идеей Блага, дается Платоном значительно позднее, в книгах VI-VII.
«Именно этим – воспитанием людей – и обусловлен акцент Сократа в его резюме: «Род же софистов», – говорит Сократ, – я считаю весьма опытным в множестве прекрасных речей, но боюсь, как бы он, странствуя по городам и нигде не живя оседло, не разминулся с теми речами, какие ведут мужи, одновременно философы и политики, во всех их делах… Каково их воспитание? Не музыкой ли и науками, сколько подобает им, во всем они воспитаны?» (Ср. Tim. 19e-20a). Это противостояние истинного философа-политика и софиста, находящее свое острое выражение в «Горгии», является лейтмотивом платоновской мысли. При этом Сократ в «Тимее» сознательно опускает в своем обзоре другие, не менее важные, но более отвлеченные темы «Государства», такие как цикл деградации государств или миф об Эре, фокусируясь на позитивной программе воспитания. Таким образом, его краткое повторение намеренно сконцентрировано исключительно на конструктивных принципах совершенного государства и, что самое главное, на качествах людей, призванных его воплотить.
Возвращаясь к беседе с Кефалом, мы видим, что этот акцент на παιδεία как на подлинном фундаменте полиса позволяет понять структурную роль первой книги как философского пролога. Уход Кефала знаменует уход от традиционного понимания добродетели, а последующая дискуссия с Полемархом, наследующим определение отца, но пытающимся подвести под него логическое основание, представляет собой имманентную критику обыденного морального сознания. Эта критика, выявляющая логические тупики «доктрины» Кефала, является тем двигателем, который выводит дискуссию на новый уровень и делает необходимым радикальный вызов Фрасимаха. Только столкнувшись с нигилистическим отрицанием ценности справедливости, Сократ вынужден перейти к построению полномасштабной теории, требующей рассмотрения души и государства в их идеальном устройстве. Таким образом, сцена в доме Кефала не только задает экзистенциальный тон, но и диалектически подготавливает почву для главного вопроса всего диалога, суть которого, согласно самому Платону, заключена в том, «из каких мужей» должно состоять наилучшее государство.
Диалог с Полемархом. Определение справедливости как «воздания должного» представляет собой обыденное мнение (doxa). Сократ выявляет его внутренние противоречия, подготавливая почву для более глубокого исследования.
Беседа с Полемархом, который, по его собственным словам, принимает и защищает определение справедливости, услышанное им от отца, Симонида Кеосского, становится следующим логическим шагом в диалектическом восхождении. Это определение – «τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἑκάστοις ἀποδιδόναι» («воздавать каждому должное») – представляет собой уже не просто наивную веру, как у Кефала, а рефлексивную попытку обосновать моральный принцип через апелляцию к авторитету (поэта-мудреца). Таким образом, Полемарх олицетворяет переход от нерефлексивной традиционности к попытке рационально осмыслить обычай, что является характерной чертой просвещенного общественного мнения (doxa). Сократ начинает свою проверку этого определения с уточнения: что же именно Симонид считал «должным»? Полемарх предлагает интерпретацию: «говорить правду и воздавать то, что взял» (τἀληθῆ λέγειν τε καὶ ἀποδιδόναι ἄν τίς τι λάβῃ, 331d). Однако Сократ тут же, используя свой излюбленный метод, ставит под сомнение универсальность этого правила с помощью контрпримера: разве будет справедливо возвращать оружие другу, который, получив его обратно, впадет в безумие? Полемарх вынужден признать, что нет. Этот пример не просто опровергает конкретную формулировку; он демонстрирует фундаментальный недостаток любой морали, основанной на жестких, неизменных правилах: она не учитывает изменяющихся обстоятельств и последствий действий, то есть лишена гибкости практического разума (phronesis).
Осознав это, Полемарх уточняет свою позицию, внося существенную поправку, которая коренным образом меняет смысл определения. Он ссылается на Симонида, утверждая, что под «должным» поэт понимал «то, что должно друзьям» (οἷα χρὴ τοὺς φίλους), и, следовательно, справедливость – это «приносить пользу друзьям и причинять вред врагам» (τοὺς φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τοὺς ἐχθροὺς κακῶς, 332d). Это уточнение знаменует собой важный сдвиг: справедливость теперь определяется не через абстрактное понятие долга, а через конкретные социальные отношения – дружбу и вражду. Она становится инструментом партикулярной, групповой морали, функцией поддержания лояльности внутри своего круга и агрессии вовне. Сократ подвергает это новое определение многосторонней критике, которая выявляет его внутреннюю противоречивость и моральную ущербность.
Во-первых, Сократ ставит под сомнение саму возможность справедливого человека причинять вред кому бы то ни было. Он задает принципиальный вопрос: «Как ты думаешь, справедливый человек может кого-нибудь сделать несправедливым?» Или, переводя на язык добродетелей: «Может ли добродетель (справедливость) порождать порок (несправедливость)?» (335b-c). Сократ проводит аналогию с другими качествами: тепло не может охлаждать, а сухость – увлажнять. Подобно этому, функция справедливости не может быть вредоносной; справедливый человек, по самой своей сути, является «человеком делающим» (ἀνθρώπου πρακτικὸν), но его действие должно быть благотворным. Таким образом, тезис о «вреде врагам» оказывается несовместимым с самой природой справедливости как добродетели. Этот аргумент имеет глубокое этическое значение: он утверждает, что подлинная добродетель не может быть инструментом зла, даже направленного на врага. Справедливость, таким образом, впервые начинает рассматриваться не как внешняя норма поведения, а как внутреннее качество души, обладающее собственной, неизменной природой.
Во-вторых, Сократ атакует эпистемологическую основу определения – нашу способность безошибочно различать друзей и врагов. Он спрашивает: легко ли верно распознать, кто друг, а кто враг? Не ошибаются ли люди в этом постоянно, принимая за друзей льстецов и притворщиков, а за врагов – честных людей? (334c-335a). Этот вопрос подрывает саму практическую применимость принципа. Если мы не можем с уверенностью идентифицировать друга и врага, то наше «справедливое» действие – помочь первому и навредить второму – с большой вероятностью обернется своей противоположностью: мы поможем злому человеку и навредим хорошему. Таким образом, мораль, основанная на этом принципе, не только несправедлива по своей сути, но и крайне ненадежна на практике. Она зависит от случайного и зачастую ошибочного человеческого суждения.
В-третьих, Сократ затрагивает функциональный аспект. Справедливость, по мнению Полемарха, полезна в мирное время для хранения денег. Но, спрашивает Сократ, для хранения каких вещей она наиболее полезна? Для тех, которыми мы не пользуемся. А когда мы ими пользуемся, нам нужны специальные искусства: чтобы использовать лиру, нужен музыкант, чтобы использовать рубящее орудие, нужен корабельщик или плотник (332d-333e). Справедливость, получается, полезна в бездействии, но бесполезна в действии. Этот reductio ad absurdum показывает, что определение справедливости как инструментальной добродетели, служащей узким целям, ведет к парадоксу, где ее ценность оказывается негативной и пассивной.
Диалог с Полемархом, таким образом, выполняет crucialную очистительную функцию. Сократ последовательно демонстрирует, что обыденное понимание справедливости, даже подкрепленное авторитетом, внутренне противоречиво, эпистемологически ненадежно и морально сомнительно. Оно либо ведет к абсурдным последствиям (возврат оружия безумцу), либо низводит справедливость до уровня примитивной групповой солидарности и мести, что противоречит ее сути как добродетели. Разрушив это здание общепринятой морали, Сократ создает интеллектуальный вакуум. Прежние, казалось бы, прочные определения лежат в руинах. Именно эта ситуация концептуального кризиса и делает появление Фрасимаха не только драматичным, но и диалектически необходимым. Радикальный вызов софиста – утверждение, что справедливость есть не что иное, как выгода сильного, – становится неизбежной реакцией на крах традиционных ценностей. Только пройдя через это отрицание, дискуссия сможет подняться на новый уровень – от критики чужих мнений к построению собственного положительного учения о справедливости как гармонии души и государства, которое уже не будет зависеть от случайных социальных связей или утилитарных расчетов, а будет укоренено в самой природе бытия и познания.
Спор с Фрасимахом. Радикальный вызов Фрасимаха («справедливость – это выгода сильного») – необходимая диалектическая стадия. Именно здесь зарождаются ключевые идеи: что несправедливость разрушает любое сообщество изнутри, а образ правителя-пастуха, заботящегося о благе подданных, предвосхищает концепцию философа-царя.
Спор с Фрасимахом представляет собой кульминацию негативной фазы диалектического исследования в первой книге «Государства». Если уход Кефала символизировал отказ от традиционной морали, а дискуссия с Полемархом выявила внутренние противоречия обыденного сознания (doxa), то вызов Фрасимаха – это взрыв, который должен разрушить саму почву, на которой стояла прежняя этика, чтобы расчистить место для нового, философского построения. Фрасимах, ворвавшийся в беседу «словно дикий зверь» (336b), не просто предлагает альтернативное определение; он радикально переворачивает саму систему моральных координат. Его тезис – «ἐγὼ φημὶ εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον» («Я утверждаю, что справедливость есть не что иное, как выгода сильнейшего», 338c) – это не просто циничное заявление, а последовательная, основанная на эмпирическом наблюдении за миром политическая теория.
Сократ первоначально подвергает эту концепцию имманентной критике, используя аналогию с искусством (τέχνη). Он утверждает, что любое искусство, будь то искусство врача или кормчего, по своей сути направлено не на собственную выгоду, а на благо того, над кем оно осуществляется – пациента или корабля. «Οὐδενὸς ἄρα ὠφελείας ἕνεκεν ἀρχή ἐστιν οὐδεμία αὑτῷ τῷ ἄρχοντι, ὡς τοῦ λεγομένου, ἀλλὰ τῷ ἀρχομένῳ» («Ни одна власть, поскольку она власть, не печется о своей собственной выгоде, как это обычно утверждают, но о пользе подвластного», 342e). Этот аргумент, порождающий образ правителя-пастуха, заботящегося о стаде, является первым наброском концепции философа-царя. Здесь Сократ закладывает фундаментальный принцип: подлинное правление – это не господство ради наживы, а служение, основанное на знании и направленное на благо управляемых. Этот образ прямо противопоставляется фрасимаховскому правителю-тирану, который уподобляется разбойнику, стремящемуся урвать свою долю.
Однако диалектическая гениальность Платона проявляется в том, что Фрасимах не сдается и усиливает свою позицию, переходя от теории к описанию реальности. Он рисует яркую картину того, как на самом деле живут люди: «ὁ μὲν δίκαιος παρὰ τὸν ἄδικον ἀεὶ ἔλαττον ἔχει» («справедливый всегда имеет меньше, чем несправедливый», 343d). Он приводит примеры из деловой жизни, налоговых обложений и, что важнее всего, политики, где вершина несправедливости – тирания – приносит своему носителю максимальное богатство и власть. Сила аргумента Фрасимаха в его эмпирической убедительности; он апеллирует к тому, что все видят в окружающем мире. Именно здесь Сократ вынужден сменить тактику и перейти от анализа власти к более глубокому вопросу – о природе самой души и о том, какой образ жизни по-настоящему выгоден человеку.
Этот переход знаменует рождение ключевой идеи всего диалога. Сократ выдвигает тезис о том, что несправедливость, будучи пороком (κακία), по своей природе разрушительна не только для жертвы, но и для самого ее носителя. Он утверждает, что несправедливые действия, даже если они совершаются группой людей (например, шайкой разбойников), требуют между этими несправедливыми людьми хотя бы минимальной доли справедливости, чтобы они могли сотрудничать и не вредить друг другу. «Ἀδικία δὲ μάχος τε καὶ ἔχθρα καὶ διαφορά παρέξει καὶ πρὸς αὑτοὺς καὶ πρὸς τοὺς δικαίους» («Несправедливость же вызовет раздоры и ненависть, и распри как между самими [несправедливыми], так и по отношению к справедливым», 351e). Эта мысль гениальна: несправедливость не может быть принципом устойчивого сообщества, даже преступного. Она – сила раздора и саморазрушения, которая подрывает любую кооперацию изнутри. Таким образом, Сократ показывает, что справедливость – это не наивный идеал, а функциональная необходимость для существования любого сообщества, от банды до государства, и, что важнее всего, для гармонии внутри индивидуальной души.
Хотя спор с Фрасимахом заканчивается внешним согласием последнего, ясно, что настоящего разрешения он не приносит. Фрасимах «уступает», но не убежден. Однако диалектическая задача этой стадии выполнена блестяще. Вызов софиста заставил Сократа и его собеседников признать, что вопрос о справедливости нельзя решить на уровне утилитарных расчетов или наблюдений за неправедным миром. Для этого требуется более фундаментальное исследование – исследование устройства человеческой души (ψυχή) и ее блага. Неудовлетворенность результатом первой книги, где Сократ, по его собственным словам, «еще ничего не знает» о справедливости (354b), является мощным стимулом для Главкона и Адиманта выдвинуть свои, еще более изощренные версии аргумента Фрасимаха во второй книге. Это, в свою очередь, открывает путь к грандиозному проекту построения идеального государства в речи – единственному методу, который позволяет «увидеть» справедливость в большом, чтобы затем обнаружить ее в малом, в индивидуальной душе. Таким образом, радикальный вызов Фрасимаха оказывается необходимой каталитической силой, без которой рождение центральной идеи «Государства» – о справедливости как внутренней гармонии, являющейся высшим благом для души, – было бы невозможным.
Раздел I.
На основе предыдущих разъяснений
Первый раздел диалога, чей артистизм и кажущаяся простота поражают читателя, выполняет несколько важнейших функций. Описание того, как Сократ с Главконом возвращается из Пирея и оказывается в доме богатого и почтенного старца Кефала, где царит атмосфера благочестия и гостеприимства (Платон не забывает даже упомянуть подушку в кресле, на которую тот предлагает сесть Сократу), – это не просто бытовая зарисовка. Эта сцена, как и вопрос Сократа к Кефалу о том, каково ему в старости («И вот я бы с удовольствием расспросил тебя, кажется ли она тебе [старость] тяжелой ношей жизни, поскольку ты уже достиг того, что называют порогом старости» – 328e), служит органичным введением в центральную тему справедливости, задавая тон глубочайшего экзистенциального вопрошания. Разговор течет непринужденно, подобно беседе простых людей, и может показаться, что здесь не ищут ничего серьезного. Однако именно эта естественность является гениальным художественным приемом. Кефал, живой пример человека, благополучно переносящего старость благодаря своему богатству и, что важнее, спокойной совести, сам того не ведая, задает тон всему последующему исследованию. Его слова о том, что для старости легкой делает не столько богатство, сколько сознание прожитой праведной жизни и отсутствие страха перед загробными карами, оказываются семенем, из которого произрастает грандиозное дерево платоновской политической философии. Эта фраза, брошенная как бы мимоходь, настолько уместна, что кажется, будто автор не просил ничего иного. Но именно она, тематически перекликаясь с заключительным мифом об Эре в десятой книге (614b и далее), где как раз и говорится о посмертных воздаяниях, образует кольцевую композицию всего произведения, демонстрируя его глубинное единство.
Таким образом, личность Кефала введена отнюдь не случайно. Платон, следуя своей же мысли из шестой книги «Государства» о том, что старейшины должны в особенности предаваться философии (498b-c), хочет показать на примере этого благочестивого старца, что разговор о справедливости – это не отвлеченная схоластика, а вопрос, коренящийся в самой человеческой жизни и ее конечном смысле, подобно тому как в «Федоне» спор о бессмертии души ведется устами Сократа на пороге смерти, что придает аргументам экзистенциальную весомость. Уход Кефала к жертвоприношениям («Ступайте, Сократ, а я к жертвоприношениям» – 331d) – это мощный символический жест, знаменующий переход от традиционной морали, основанной на ритуале и обычае (номос), к рациональному философскому поиску (логос).
Затем дискуссия переходит к его сыну, Полемарху, и формулируется ключевой вопрос: «Так что же такое сама справедливость? Скажем ли мы, что это есть просто говорить правду и отдавать взятое у кого-либо?» (331c). Этот переход знаменует смещение фокуса с личного благочестия на определение универсального понятия. Диалог с Полемархом, наследующим и пытающимся рационально обосновать определение Симонида («воздавать каждому должное»), представляет собой критику обыденного сознания (doxa). Сократ последовательно выявляет его внутренние противоречия, демонстрируя, что мораль, основанная на жестких правилах (например, «приносить пользу друзьям и вредить врагам»), оказывается не только эпистемологически ненадежной, но и морально ущербной, противореча самой природе справедливости как добродетели, которая не может быть вредоносной. Упоминание Цицероном («Письма к Аттику», IV, 16) этого момента в контексте литературной техники (удаление персонажа) подтверждает, что античные читатели видели в этом сознательный художественный ход Платона.
Возникает закономерный вопрос: почему же диалог не заканчивается на этом, казалось бы, естественном месте – на первом определении справедливости? Причина в том, что Платон ведет читателя по пути восхождения от частных, обыденных мнений (doxa) к подлинному знанию (episteme). Ранние, «доксические» определения, предлагаемые Полемархом и опровогаемые Сократом, необходимы как точка отталкивания. Однако подлинный диалектический скачок происходит с появлением Фрасимаха, чей радикальный вызов («справедливость – это выгода сильного») является необходимой стадией. Его аргумент, основанный на наблюдении за реальностью, разрушает саму почву традиционной морали, вынуждая Сократа поднять дискуссию на новый уровень. Именно в споре с Фрасимахом зарождаются ключевые для всего диалога идеи: что несправедливость разрушает любое сообщество изнутри, а образ правителя-пастуха, заботящегося о благе подданных, предвосхищает концепцию философа-царя. Завершить диалог на первом этапе значило бы оставить проблему нерешенной, что противоречило бы самой сути философского поиска, изображенного Платоном. Как показывает история интерпретации (вспомним спор о второстепенных заголовках вроде «О справедливости»), такой подход сузил бы грандиозный замысел произведения. Таким образом, хотя начало диалога самодостаточно и художественно завершено как пролог, его истинное значение раскрывается только в контексте всего последующего пути – через построение идеального государства, аллегорию Пещеры и метафизику Блага к окончательному пониманию справедливости как гармонии души и полиса, кратко резюмируемому самим Платоном в «Тимее» как вопрос о том, «из каких мужей» должно состоять наилучшее государство.
Раздел II
Полемарх Симонид утверждает правоту того определения, с которым его учил соглашаться Кефал: ὅτι τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἐκάςῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν έςι. Полемарх предлагает различные мнения о смысле этого утверждения, но все они, кажется, исходят из одного и того же источника, а именно, что правильно приносить пользу друзьям и вредить врагам, и отвергаются на том основании, что в них мало истины. Наконец, спор между Полемархом и Сократом возвращается к тому, что тот, кто говорит, что он справедлив, должен возместить всем то, что он всем должен, и он понимает это как то, что справедливый человек должен вредить, βλάβην если он приносит пользу людям, своим врагам и своим друзьям, то они соглашаются, что он не мудр, потому что он вряд ли скажет правду, так как не доказано, что справедливо вредить кому-либо. Аон – это, следовательно, то, что сказал Симонид, а не Биантис и Питтаций, но скорее Περιανδρου είναι ἥ Περδικκον ἣ Ξέρξου ἥ Ισμηνιου τού Θηβαίου͵ ἣ τινος ἂλλου μέγα οίομένον δύνσθαι πλουσίου άνδρός. Ср. ρ 336, A. Этот отрывок учит, что спор до этого момента заключается в ниспровержении мнения о силе и природе правосудия, которое следует рассматривать как учрежденное не для справедливого человека, а для тирана. В дополнение к тому, что мы только что говорили о Платоне, следует отметить, что вторая сцена пролога охватывается как одна сцена этой фразой Сократа, которая также указывает на то, что персонажи должны говорить по очереди.
Раздел II. Диалектическое развертывание и критика инструментального понятия справедливости: от Полемарха к угрозе тирании
Содержание второго раздела диалога представляет собой классический образец сократовской диалектики, где исходное, заимствованное у авторитета мнение последовательно проверяется на логическую состоятельность и этическую приемлемость. Полемарх, принимая эстафету от отца, Кефала, защищает определение справедливости, восходящее к поэту Симониду Кеосскому: «воздавать каждому должное» (τὸ τὰ ὀφειλόμενα ἐκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιόν ἐστι).
Диалектическая структура: от абстракции к этическому абсурду
1. Фаза 1: Конкретизация абстрактного принципа. Исходный тезис Симонида предельно абстрактен. Сократ, действуя как диалектик, требует его конкретизации. Полемарх, следуя распространенной в аристократической среде этике, наполняет принцип конкретным содержанием: справедливость – это «приносить пользу друзьям и вредить врагам». Эта интерпретация превращает справедливость из моральной категории в инструмент социальных отношений, основанных на личной преданности и вражде.
2. Фаза 2: Имманентная критика и выявление противоречий. Сократ не отвергает тезис сходу, но принимает его условно и выявляет внутренние противоречия:
o Гносеологическая проблема: Как безошибочно отличить истинного друга от истинного врага? Если ошибиться, можно причинить вред другу и помочь врагу, что является прямой противоположностью заявленной цели справедливости.
o Функциональная проблема (ἔργον): Следуя уже установленной логике, Сократ спрашивает, в какой именно области справедливость полезна – в мирное время или на войне? Это сужает сферу применения справедливости до функции, схожей с искусством воина или сторожа, что готовит почву для дальнейшего рассуждения о специализированной роли стражей в идеальном государстве.
3. Фаза 3: Этическая редукция к абсурду. Ключевой и кульминационный момент диалектики – переход к вопросу о сущностной природе справедливости. Сократ задается вопросом: может ли «вредить» (βλάπτειν) быть функцией справедливого человека? Используя аналогию с другими искусствами (врача, музыканта), Сократ демонстрирует, что «вредить» – это не усиление, а умаление совершенства предмета. Справедливость же, как «человеческая добродетель» (ἀρετὴ ἀνθρώπου), по своей сути не может быть направлена на ухудшение человеческой природы. Следовательно, справедливый человек не может никому вредить по определению, даже своему врагу.
Философская роль этапа: низвержение традиционной этики и рождение проблемы
Этот этап диалога выполняет несколько фундаментальных функций:
1. Деструкция архаического кода чести. Платон через Сократа подвергает сокрушительной критике традиционную для греческого аристократизма этику, основанную на принципе мести и групповой солидарности. Он показывает ее иррациональность и моральную ущербность, противопоставляя ей идеал справедливости как блага самого по себе.
2. Выявление истинного адресата определения. Сократ делает гениальное наблюдение: определение справедливости как «вредить врагам и помогать друзьям» на самом деле описывает не справедливость, а искусство тирана. Именно тиран в максимальной степени использует силу для возвышения своих приспешников и уничтожения противников. Таким образом, диалог совершает поворот: спор идет уже не о том, что такое справедливость, а о том, чью «справедливость» мы обсуждаем – справедливого человека или несправедливого властелина.