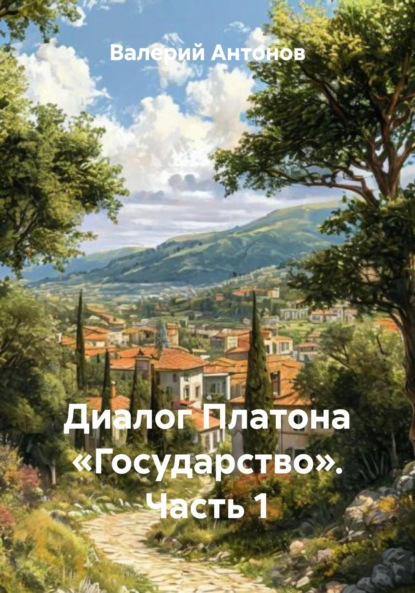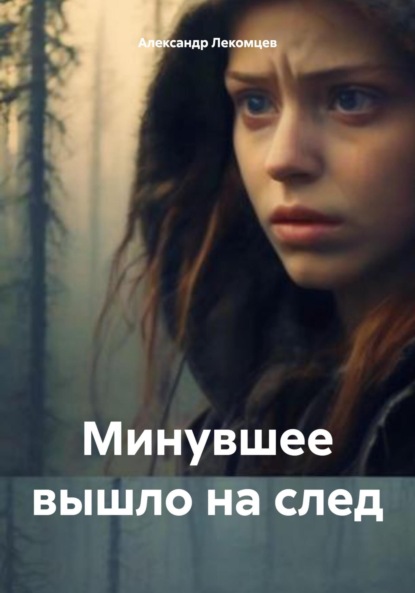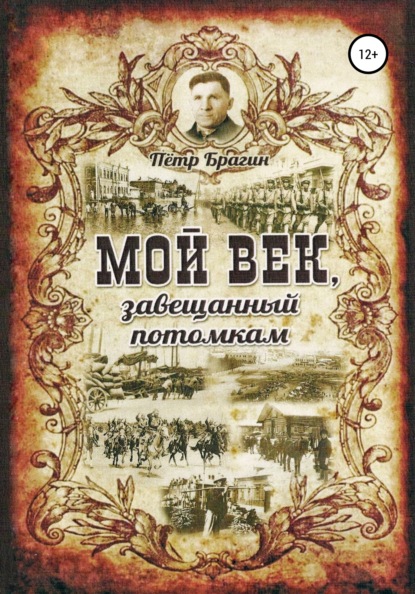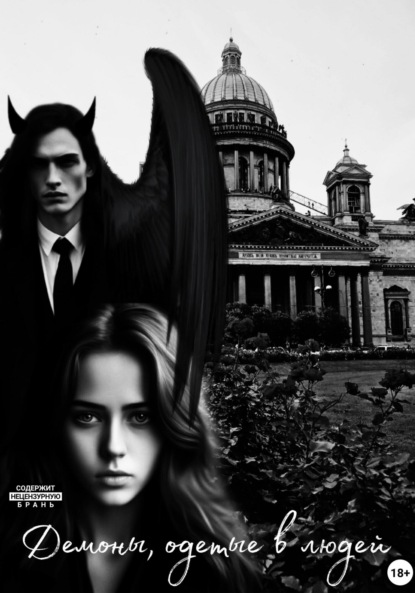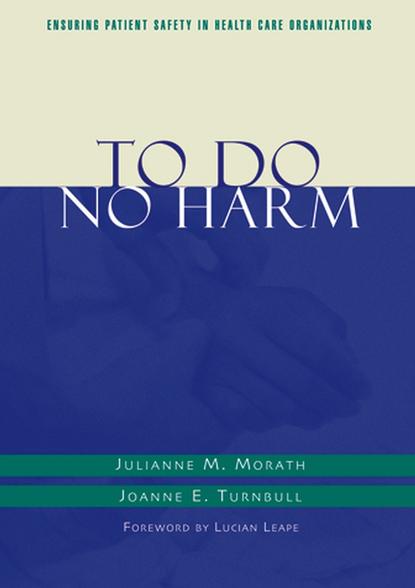- -
- 100%
- +
Но давайте продолжим. Страница 352. c.: ὅτι μὲν γὰρ καὶ σοφώτεροι καὶ ἀμείνους καὶ δυνατώτεροι πράττειν οἱ δίκαιοι φαίνονται, οἱ δὲ ἄδικοι οὐδὲ πράττειν μετ᾽ ἀλλήλων οἷοί [352ξ] τε – ἀλλὰ δὴ καὶ οὕς φαμεν ἐρρωμένως πώποτέ τι μετ᾽ ἀλλήλων κοινῇ πρᾶξαι ἀδίκους ὄντας, τοῦτο οὐ παντάπασιν ἀληθὲς λέγομεν: οὐ γὰρ ἂν ἀπείχοντο ἀλλήλων κομιδῇ ὄντες ἄδικοι, ἀλλὰ δῆλον ὅτι ἐνῆν τις αὐτοῖς δικαιοσύνη, ἣ αὐτοὺς ἐποίει μήτοι καὶ ἀλλήλους γε καὶ ἐφ᾽ οὓς ᾖσαν ἅμα ἀδικεῖν, δι᾽ ἣν ἔπραξαν ἃ ἔπραξαν, ὥρμησαν δὲ ἐπὶ τὰ ἄδικα ἀδικίᾳ ἡμιμόχθηροι ὄντες, ἐπεὶ οἵ γε παμπόνηροι καὶ τελέως ἄδικοι τελέως εἰσὶ καὶ πράττειν ἀδύνατοι – ταῦτα [352δ] μὲν οὖν ὅτι οὕτως ἔχει μανθάνω, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς σὺ τὸ πρῶτον ἐτίθεσο: εἰ δὲ καὶ ἄμεινον ζῶσιν οἱ δίκαιοι τῶν ἀδίκων καὶ εὐδαιμονέστεροί εἰσιν, ὅπερ τὸ ὕστερον προυθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον. φαίνονται μὲν οὖν καὶ νῦν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν εἰρήκαμεν: ὅμως δ᾽ ἔτι βέλτιον σκεπτέον. οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον χρὴ ζῆν. Все это рассуждение, следовательно, со страницы 347, Е. кажется, было использовано для того, чтобы научить, насколько следует учить жизни праведников, – ἀλλὰ τοῦτο μὲν δὴ καὶ εἰς αὖθις σκεψόμεθα: πολὺ δέ μοι δοκεῖ μεῖζον εἶναι ὃ νῦν λέγει Θρασύμαχος, τὸν τοῦ ἀδίκου βίον φάσκων εἶναι κρείττω ἢ τὸν τοῦ δικαίου – почему, говорю, человек теперь вспоминает об этом деле, как будто он начал расспрашивать о нем в этом последнем месте, а не обо всем, что было сказано прежде, относится к этому делу. Это, по-видимому, объясняется так, что в этой части диалога Платон хотел подготовить истинное определение справедливости и научить из следствия, что несправедливость есть развращающая сила, которая длится, если отнимает все жизненное сообщество, и не может быть принципом и основанием государства, предположим на мгновение, что он это скрыл. К чему относятся эти слова. Ведь тем, что Фрасимах проповедует, что справедливые счастливее несправедливых, Сократ открывает для себя подход к более точному обсуждению столь серьезного вопроса, от которого зависит каждое человеческое суждение; повседневным языком, которому подражает диалог, он очень легко соединяет неосторожные высказывания с высказываниями, хранимыми строгими законами дисциплины, и сохраняет внешнюю форму всего произведения, с помощью которой он претендует на похвалу этой речи ради справедливости. Причина, по которой он это делает, станет ясна позже. Сейчас же следует лишь отметить, что для характера диалога, как бы спонтанно возникающего и развивающегося, не очень подходит объявлять конец и порядок изречений, созданных по правилам искусства, уже в начале речи. Платон, однако, не забывал давать внимательным и следящим за всем планом произведения определенные знаки, которые как бы указывали путь, по которому можно было понять, о чем, собственно, идет речь в изречениях. Ведь из нашего рассуждения ясно, что Сократ явно доказывает в нем, что жизнь справедливого предпочтительнее жизни несправедливого, хотя на самом деле его слова принадлежат кому-то другому» Ср. также p. 354, B. Ведь и там он говорит не о том, что p. 347, E. sqq. Он предположил, что это, конечно, не случайно. Поэтому последователям Платона следует посоветовать не слишком беспокоиться об устройстве внешнего диалога и не слишком заботиться о самом деле.
3. Затем Сократ, разъяснив серьезность вопроса, показывает, что не может быть счастья без добродетели, если счастье связано с добродетелью, и доказывает, что справедливость есть добродетель, что справедливые блаженны, а несправедливые несчастны и что несправедливость не более полезна, чем справедливость. Все это в дальнейшем обсуждалось очень кратко, ap, 352, E. – 354, A., и не по другой причине, о чем свидетельствует краткость самого обсуждения и аргументации, а также признание Сократа в конце книги, а потому, что такой подход ведет к более точному обсуждению силы справедливости и обсуждению природы, или, точнее, города, как мы увидим в следующей книге. Но то, что и для них истинная идея справедливости должна быть подготовлена, чтобы повторить ее из власти души, и что для утверждения истинной идеи справедливости не обязательно основывать город, станет ясно из дальнейшего. ἴθι δή, μετὰ ταῦτα τόδε σκέψαι. ψυχῆς ἔστιν τι ἔργον ὃ ἄλλῳ τῶν ὄντων οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ πράξαις, οἷον τὸ τοιόνδε: τὸ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν καὶ βουλεύεσθαι καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ἔσθ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ ἢ ψυχῇ δικαίως ἂν αὐτὰ ἀποδοῖμεν καὶ φαῖμεν ἴδια ἐκείνης εἶναι; οὐδενὶ ἄλλῳ. τί δ᾽ αὖ τὸ ζῆν; οὐ ψυχῆς φήσομεν ἔργον εἶναι; μάλιστά γ᾽, ἔφη. οὐκοῦν καὶ ἀρετήν φαμέν τινα ψυχῆς εἶναι; φαμέν. [353ε] ἆρ᾽ οὖν ποτε, ὦ Θρασύμαχε, ψυχὴ τὰ αὑτῆς ἔργα εὖ ἀπεργάσεται στερομένη τῆς οἰκείας ἀρετῆς, ἢ ἀδύνατον; ἀδύνατον. ἀνάγκη ἄρα κακῇ ψυχῇ κακῶς ἄρχειν καὶ ἐπιμελεῖσθαι, τῇ δὲ ἀγαθῇ πάντα ταῦτα εὖ πράτττειν. ἀνάγκη. οὐκοῦν ἀρετήν γε συνεχωρήσαμεν ψυχῆς εἶναι δικαιοσύνην, κακίαν δὲ ἀδικίαν; Συνεχωρήσαμεν γάρ… ρ, 353, D. E.
Затем мы переходим к концу первой книги, который гласит: «Прими эти очень щедрые дары для себя, – говорит Фрасимах в «Бендидии, о Сократ». От тебя, говорит Сократ, о Фрасимах, после того как ты стал ко мне кроток и перестал гневаться.
«Тем не менее, я хорошо отозвался о себе, а не о тебе; Ибо как проницательные люди всегда отнимают принесенную им пищу, не успев даже умеренно откушать от нее, так и я веду себя, думаю, прежде чем нашел то, что мы искали вначале, то есть правоту, я оставил его и с жадностью расспрашивал о нем, кто он – нечестие и невежество или мудрость и добродетель, и после того, как я сказал, что неправедность полезнее праведности, я не удержался от того, чтобы подойти к козлу от него, так что через этот диалог теперь произошла тысяча вещей, так что я ничего не знаю. Ведь если я не знаю, что такое справедливость, то a fortiori я не знаю, добродетель это или нет, и счастлив ли тот, кто ею обладает, или нет. Я еще не закончил, но так далеко я еще никогда не заходил. Ταῦτα δή σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, εἱστιάσθω ἐν τοῖς Βενδιδίοις. ὑπὸ σοῦ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Θρασύμαχε, ἐπειδή μοι πρᾷος ἐγένου καὶ χαλεπαίνων ἐπαύσω. οὐ μέντοι καλῶς γε [354β] εἱστίαμαι, δι᾽ ἐμαυτὸν ἀλλ᾽ οὐ διὰ σέ: ἀλλ᾽ ὥλλ᾽ σπερ οἱ λίχνοι τοῦ ἀεὶ παραφερομένου ἀπογεύονται ἁρπάζοντες, πρὶν τοῦ προτέρου μετρίως ἀπολαῦσαι, καὶ ἐγώ μοι δοκῶ οὕτω, πρὶν ὃ τὸ πρῶτον ἐσκοποῦμεν εὑρεῖν, τὸ δίκαιον ὅτι ποτ᾽ ἐστίν, ἀφέμενος ἐκείνου ὁρμῆσαι ἐπὶ τὸ σκέψασθαι περὶ αὐτοῦ εἴτε κακία ἐστὶν καὶ ἀμαθία, εἴτε σοφία καὶ ἀρετή, καὶ ἐμπεσόντος αὖ ὕστερον λόγου, ὅτι λυσιτελέστερον ἡ ἀδικία τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἀπεσχόμην τὸ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ἀπ᾽ ἐκείνου, ὥστε μοι νυνὶ γέγονεν ἐκ τοῦ διαλόγου μηδὲν [354ξ] εἰδέναι: ὁπότε γὰρ τὸ δίκαιον μὴ οἶδα ὅ ἐστιν, σχολῇ εἴσομαι εἴτε ἀρετή τις οὖσα τυγχάνει εἴτε καὶ οὔ, καὶ πότερον ὁ ἔχων αὐτὸ οὐκ εὐδαίμων ἐστὶν ἢ εὐδαίμων..
Сократ не поступил как проницательный человек, не оставил без внимания то, что он сначала спросил, что такое справедливость, но внес много такого, что имеет значение для правильного суждения о силе и природе справедливости, и здесь все идет по порядку, и все рассуждение с. 347, Е отвечает как бы от противного тем, кого еще защищал Фрасимах, что справедливость есть το τού κρείττονος ξυμφέρον, οίκείαν δέ τού πειθομνο υ τε καῖ υπηρετούνος καλαιαν, и тем самым подготовляется истинное понятие о справедливости. То, что видел и Шлейермахер: Во-первых, следует также отметить, что в последнем разговоре Сократа с Фрасимахом справедливость уже представляется не как нечто, существующее только между двумя отдельными сущностями, но и как нечто внутреннее, а значит, несправедливость – это также нечто, вызывающее внутренний разлад и разрушение, когда она присуща частям одного и того же целого по отношению друг к другу.
То, как вопрос справедливости трактуется в дальнейшем, – это тоже путь. Но Сократ не вправе говорить в этот момент, что речь произошла случайно, что жизнь праведника благороднее жизни неправедного, ибо Э. уже заявил со с. 317, что хотел учить, но не сделал этого. Таким образом, эта часть работы является всей рубашкой и абсолютна сама по себе. Следовательно, эта последняя часть первой книги может служить довольно наглядным примером того, что Платон многое слизал в конце и в расположении того, что он говорит и о чем говорит, и научит, как искусно он занимается расположением диалогов, так что, когда он, казалось бы, занимается всем остальным, он тем не менее идет к своей цели и, по-видимому, без пользы устраивает все в наилучшем порядке. Ибо в этом месте, где мы оказались, нет иной истины, кроме той, что справедливость еще не найдена». Этим признанием Сократ искал наиболее щедрую возможность возразить на выдвинутое против него обвинение так, чтобы казалось, будто его вовсе не искали, а оно вырвалось самопроизвольно. Ведь к вопросу о том, что такое справедливость, на которой зиждется наилучшее государство, лучше всего подходить так, чтобы можно было сказать, что он ничему не научился из того, что обсуждалось до сих пор, и что в целом он вел себя неудовлетворительно. Что дело обстоит именно так, как мы говорим, легко видеть из того факта, что даже средний писатель не стал бы так мало заботиться о правильном порядке и расположении всех частей речи, настолько, что божественный Платон утверждает, что пренебрег здесь заповедями о правильном порядке речи. Теперь, когда Платон в диалогах придерживался общей речи и свободно налетал на все, что попадалось ему на пути, следовало бы подражать и этому обычаю, но так, чтобы все шло по порядку, казалось бы, не обращая внимания ни на какой порядок. Ибо такие вещи только вводят в заблуждение невнимательного, но побуждают внимательного, так что он сам исследует и обнаруживает расположение и порядок частей, которые автор скрывает. Насколько истинно эти вещи наставляют нас, становится ясно уже в начале второй книги: Σγώ μέν ταύτα ειπων ωμήν λόγου άτττηλλαχθαι το δ ην αρα͵ ώς εοικε͵ προοίμιον.
Диалектический пролог: подготовка понятия справедливости в полемике с Фрасимахом.
Вводный этап дискуссии с Фрасимахом завершается переходом к вопросу, который Платон через Сократа считает фундаментальным: «Но гораздо более важным мне кажется вот что, что сейчас говорит Фрасимах, утверждая, что жизнь несправедливого лучше жизни справедливого» (347e). Этот переход знаменует собой стратегический поворот в диалектической структуре диалога. Если первоначальный тезис Фрасимаха (справедливость – это выгода сильного) был опровергнут как несостоятельное определение сущности справедливости, то теперь на повестку дня выносится более глубокая и лично значимая для каждого человека проблема – ценностный статус справедливости. Является ли она благом, желанным само по себе, или лишь досадной необходимостью?
Однако было бы ошибкой видеть в этой части диалога простое «опровержение ложных обвинений» против справедливости. Задача Платона несравненно масштабнее. Чтобы сделать справедливость принципом идеального государства, необходимо убедительно доказать, что она представляет собой высшее благо для души и общества. Платон искусно облекает эту строгую философскую программу в одежды спонтанно рождающегося диалога, где исследование кажется случайным, а аргументы – импровизированными. Эта видимость служит важной цели: подойти к построению государства не как догматик, навязывающий истину, а как диалектик, ведущий к ней через совместное исследование.
1. Первый диалектический ход: редукция несправедливости к невежеству и внутреннему разладу
Полемика развивается через серию уступок, которые Сократ вынуждает сделать Фрасимаха. Последний, не смущаясь, объявляет несправедливость «доблестью и мудростью» (348d), а ее носителей – «совершенно несправедливых» – способными подчинять себе города и народы. Философская роль этого утверждения заключается в том, чтобы довести позицию софиста до ее логического абсурда, сделав ее удобной мишенью для диалектического опровержения.
Сократ использует ключевую уступку Фрасимаха о том, что несправедливые не способны на совместные действия из-за взаимной вражды. Отталкиваясь от этого, Сократ строит свой первый важный аргумент:
· Диалектическая структура: Сократ применяет принцип «от большего к меньшему». Если несправедливость разрушает любую общность (город, армию, шайку разбойников), делая ее бессильной из-за внутренних распрей, то тот же принцип должен действовать и внутри отдельного человека.
· Философское углубление: Здесь впервые в диалоге проступает контур ключевой для Платона идеи – справедливость как внутренняя гармония. Несправедливость предстает не просто как порок в отношениях с другими, но как сила, сеющая раздор (στάσις) внутри самой души, делающая человека врагом самому себе и неспособным к целенаправленному действию (352b). Этот ход готовит почву для учения о трехчастной душе в IV книге, где справедливость будет определена как согласие ее начал под руководством разума.
Таким образом, на этом этапе доказывается не столько превосходство справедливости, сколько ее необходимость как организующего принципа любой эффективной деятельности. Как верно заметил Шлейермахер, это шаг к более верному определению, помещающему справедливость в ряд добродетелей.
2. Второй диалектический ход: справедливость как условие могущества
Сократ развивает мысль дальше, задавая парадоксальный, с точки зрения Фрасимаха, вопрос: может ли несправедливый город, лишенный внутреннего единства, реально обладать силой для порабощения других? Этот вопрос позволяет Сократу сделать еще более тонкое наблюдение.
· Диалектическая структура: Сократ вводит идею, что любая группа «несправедливых», способная на хоть какое-то совместное действие, не может быть «совершенно несправедливой». В ней должна присутствовать «некоторая справедливость», которая и удерживает их от взаимного вреда и позволяет действовать сообща (352c-d).
· Философское углубление: Этот аргумент наносит сокрушительный удар по позиции Фрасимаха. Получается, что сама несправедливость, чтобы быть эффективной, вынуждена заимствовать силу у справедливости. Несправедливость, доведенная до совершенства (τελέως ἄδικοι), оказывается абсолютно бессильной (πράττειν ἀδύνατοι). Следовательно, могущество, которое Фрасимах приписывал несправедливости, на деле является следствием присутствующей в ней доли справедливости. Это блестящий диалектический прием, показывающий, что справедливость – не слабость, а условие подлинной силы.
Этим рассуждением, начатым с 347e, Платон подготовляет истинное определение справедливости. Он демонстрирует, что несправедливость – это разлагающая сила, которая, будучи возведена в принцип, разрушает любое сообщество (вплоть до сообщества частей души) и не может быть основой государства.
3. Третий диалектический ход: справедливость как добродетель души и путь к эвдемонии
Завершающий этап аргументации носит телеологический характер и прямо подводит к вопросу о благе. Сократ связывает понятие справедливости с концепцией эргона (ἔργον) – собственной функции, или предназначения, вещи.
· Диалектическая структура: Установив, что функцией души является жизнь, управление и мышление (353d), Сократ задается вопросом: может ли душа хорошо исполнять свою функцию, будучи лишена своей добродетели, то есть справедливости? Ответ очевиден: нет. Следовательно, хорошая (справедливая) душа хорошо живет и хорошо управляет, а плохая (несправедливая) – плохо.
· Философское углубление: Здесь Платон закладывает основу для отождествления добродетельной жизни со счастливой (εὐδαίμων). Если справедливость – это добродетель души, а душа есть наша сущность, то жизнь по справедливости является для нас наилучшей и наиболее благополучной жизнью. Этот аргумент, хотя и изложенный кратко (352e-354a), имеет решающее значение. Его краткость свидетельствует не о недостатке, а о том, что это – предварительный вывод, который получит полное обоснование лишь после построения идеального государства и анализа души.
Заключение: Диалектическая ирония финала первой книги
Признание Сократа в конце книги в том, что он «ничего не знает» о справедливости, поскольку, не зная ее сути, не может окончательно судить о ее ценности (354b-c), – это не поражение, а вершина диалектического искусства Платона.
· Структурная роль: Это признание выполняет роль катастрофы в драматической структуре книги. Оно маркирует завершение «очистительной» части диалога, где разрушены ложные мнения, и создает интеллектуальный вакуум, требующий нового, более основательного начала. Это начало и положит Главкон во второй книге, заново поставив вопрос о природе справедливости.
· Философская ирония: Сократ заявляет, что вел себя как «лакомая птица», хватая новые темы, не разобравшись в первоначальной. Однако внимательный читатель видит, что все «отступления» – об обществе, душе, силе, счастье – были органично связаны и подготавливали почву для будущего синтеза. Платон демонстрирует, как искусно можно выстраивать диалог, сохраняя видимость спонтанности, но на деле двигаясь к четко обозначенной цели.
Таким образом, вся полемика с Фрасимахом в конце I книги служит не отрицанию, а утверждению. Она действует от противного: опровергая тезис, что справедливость – это «выгода сильного» и «чужая добродетель подчиняющегося», она исподволь готовит почву для определения справедливости как внутренней гармонии и собственной добродетели как души, так и государства. Этот раздел является не неудачным эпилогом, а блестящим прологом ко всему последующему построению.
Взгляд на архитектонику «Государства»: Замечание о делении на книги перед переходом ко второй книге
Прежде чем окончательно оставить первую книгу, необходимо рассмотреть структурный вопрос, имеющий принципиальное значение для понимания замысла Платона в целом, – проблему деления «Государства» на десять книг.
Как справедливо замечает Шлейермахер, это деление, безусловно, древнее и укоренено в традиции, восходящей к александрийским комментаторам, и потому должно сохраняться как дань исторической библиографии. Однако, с философской и композиционной точек зрения, оно представляется совершенно механическим и не связанным с внутренней логикой произведения.
Аргументы Шлейермахера выглядят убедительно:
1. Нарушение смысловых границ: Только завершение первой книги знаменует конец вводной части (пролога), и лишь начало десятой книги открывает заключительный аккорд всего произведения. Из десяти книг лишь окончание четвертой (определение добродетелей в государстве и душе) и седьмой (завершение аллегории Пещеры) совпадают с содержательными рубежами. Остальные книги обрываются на середине рассуждений, что разрушает их внутреннюю целостность.
2. Гипотеза о происхождении: Поскольку объем книг приблизительно равен, Шлейермахер предполагает, что деление было проведено постфактум, исходя не из логики аргументации, а из чисто технических соображений – для удобства переписчиков и составления каталогов. Такой подход, ориентированный на физический объем свитка, а не на смысловое единство, действительно недостоен платоновского гения, тщательно выстраивавшего диалог как живой организм.
Этот критический взгляд заставляет нас быть особенно внимательными к истинным, содержательным рубежам текста. Наше исследование должно руководствоваться не произвольными границами книг, а внутренней диалектикой беседы, где переходы от одной крупной темы к другой совершаются плавно и художественно оправданно, как того требует природа диалогической формы.
Такой подход не противоречит, а, напротив, помогает увидеть произведение как единый и законченный философский организм. Ярчайшим подтверждением правоты Шлейермахера служит начало второй книги. Фраза Главкона: «Сказав это, я думал, что на этом речь закончена. Но, как видно, это было лишь вступление (προοίμιον)» (357a) – недвусмысленно указывает на то, что вся первая книга воспринималась самими участниками диалога как пролог, подготовительная стадия к основному исследованию.
Таким образом, завершение первой книги – это не просто конец условного «тома», а важный структурный и смысловой рубеж. Завершив «очистительный» этап критики софистических определений и подготовив почву для позитивного построения, Платон делает паузу. Диалог сознательно возвращается к исходной точке – вопросу «что есть справедливость?» – но теперь уже на качественно новом уровне, требующем не анализа мнений, а конструирования модели. Это подтверждает наш анализ: первая книга была не неудачным началом, а блестяще выполненной задачей по расчистке пространства для главного философского здания, возведению которого посвящены последующие книги.
Аргументы книги I.
1. Вступление: Вопрос о старости и богатстве (329a-329d)
Заглавие: Жалобы на старость и мудрость Кефала
Текст:
Сократ встречает старца Кефала. Тот рассуждает о старости. Большинство стариков, по его словам, жалуются на утрату телесных удовольствий и плохое обращение со стороны родных, видя причину в старости.
Кефал не согласен: причина не в возрасте, а в характере человека. Он приводит в пример слова Софокла, который сравнил освобождение от плотских желаний с бегством от свирепого повелителя. В старости наступает умиротворение и свобода от тирании страстей.
Комментарий и разъяснения
1. Социальный и драматический контекст
Кефал как тип: Кефал – не афинский гражданин, а метек (иностранец, проживающий в Афинах), разбогатевший на производстве оружия. Его благополучие материально и обеспечено богатством. Он представляет собой тип «доброго старца», чья добродетель во многом обусловлена его достатком и спокойной жизнью. Английский платоновед Дж. Энн Эйс подчеркивает, что Кефал символизирует «традиционную мораль» – добродетель, основанную на обычае и внешних обстоятельствах, а не на философском познании.
· Источник: Annas, J. An Introduction to Plato's Republic. Oxford: Clarendon Press, 1981. P. 18.
o Комментарий: Эйс указывает, что Кефал покидает диалог сразу после этого разговора, чтобы принести жертву, что символично: традиционная, ритуальная религия уступает место философскому поиску.
2. Основная тема: Старость и характер (ἦθος)
Кефал выдвигает ключевую для всего диалога идею: причина человеческих несчастий кроется не во внешних обстоятельствах (старость, бедность), а во внутреннем состоянии души, в ее характере (ἦθος). Это предвосхищает центральный тезис «Государства»: справедливость – это нечто, приносящее благо прежде всего самой душе, а не только ее последствия во внешнем мире.
Контраст с большинством: Жалобы других стариков показывают, что они были привязаны к телесным удовольствиям. Их страдания в старости – следствие их неверно расставленных жизненных приоритетов. Российский исследователь А.Ф. Лосев в своем фундаментальном труде о Платоне отмечает, что здесь уже намечается платоновское учение о иерархии благ: телесные удовольствия – низшие и нестабильные.
· Источник: Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Искусство, 1969. С. 285.
o Комментарий: Лосев пишет, что «жалобы стариков… являются для Платона показателем их привязанности к материальному миру, тогда как подлинное благо связано с умственной и духовной жизнью».
3. Цитата Софокла и «тирания страстей»
Приводимая Кефалом цитата драматурга Софокла – один из самых ярких образов в этом отрывке. Сравнение плотских желаний со «свирепым повелителем» (ἐξ ἀγρίων δεσποτῶν) напрямую связывает личную этику с политической метафорой, которая станет стержнем диалога.
· Тирания внутри души: Образ тирана, от которого человек бежит, – это прообраз будущего анализа тиранического человека в книгах VIII-IX «Государства». Там Сократ подробно опишет, как похоти и низменные желания становятся внутренними тиранами, делая человека несчастным и рабом самого себя. Таким образом, Кефал, сам того не ведая, формулирует на бытовом уровне глубокую философскую проблему.
Комментарий П. Шорера: Французский историк философии Пьер Шорер видит в этом эпизоде введение одной из главных тем диалога – тему освобождения (liberation).
«Освобождение от тирана страстей, о котором говорит Софокл через уста Кефала, является первым, еще неосознанным, шагом к тому освобождению, которое осуществит философ, вырвавшись из пещеры невежества».
· Источник: Chorer, P. Études sur la République de Platon. Paris: Presses Universitaires de France, 2005. P. 45.
4. Ограниченность «мудрости Кефала»
Несмотря на кажущуюся глубину, позиция Кефала имеет существенные ограничения, которые сразу же выявит Сократ в последующем разговоре (329d-331d). Его умиротворение основано на:
1. Богатстве: Кефал прямо признает, что его способность переносить старость облегчена богатством, которое позволяет ему не быть должным ни людям, ни богам (в смысле жертвоприношений).
2. Отсутствии рефлексии: Он не подвергал свои взгляды на справедливость или благость критическому анализу. Его добродетель – «нетронутая» и некритическая.
Как пишет британский платоновед Р. Б. Ретерфорд:
«Кефал предлагает привлекательный, но до-философский взгляд на жизнь. Его спокойствие проистекает из удачного стечения обстоятельств (богатство, умеренный нрав), а не из знания. Задача Сократа – показать, что такая добродетель хрупка и не может дать ответа на вопрос "Что такое справедливость?" когда ее подвергают испытанию».