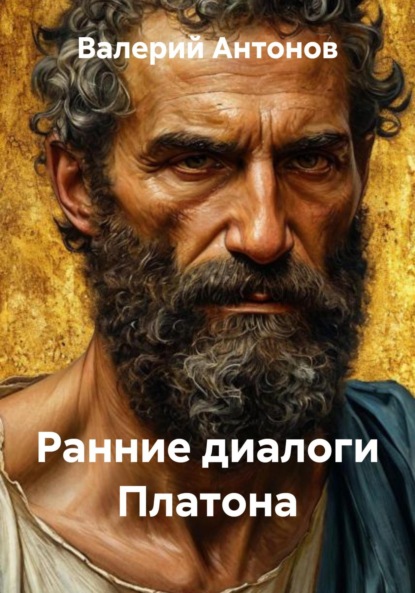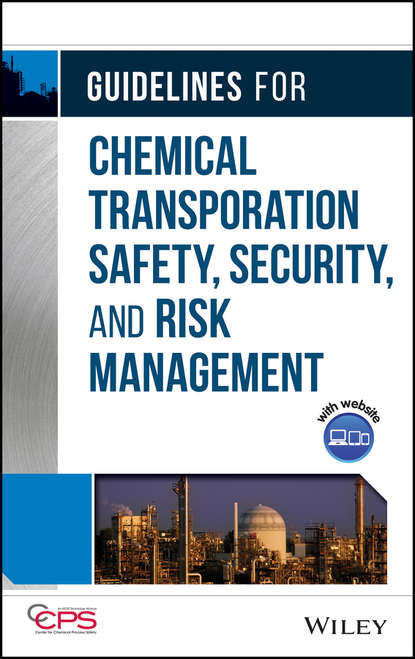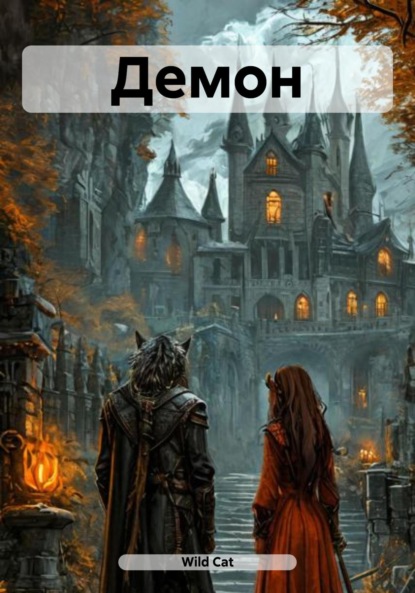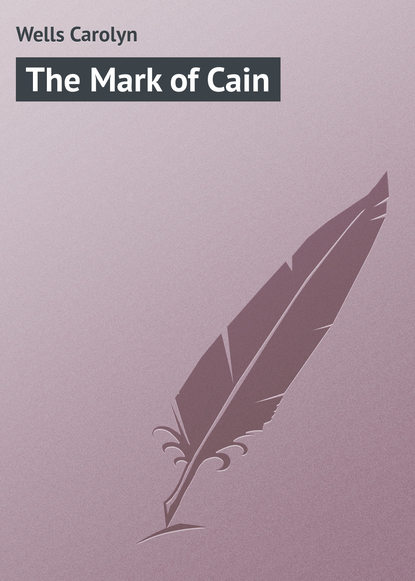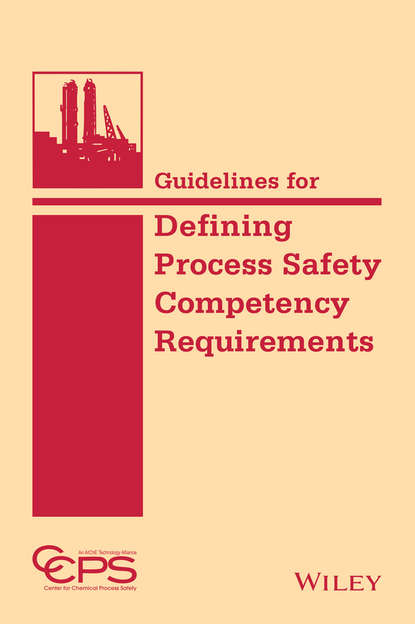- -
- 100%
- +

Введение к ранним диалогам Платона: философский акт в эпоху кризиса.
Ранние диалоги Платона – «Апология Сократа», «Критон», «Евтифрон», «Лахет», «Хармид», «Протагор», «Горгий» и другие – представляют собой уникальный феномен в истории мысли. Они являются не только отправной точкой европейской философской традиции, но и живым свидетельством интеллектуального переворота, совершенного Сократом и запечатленного гением его ученика. Эти тексты, созданные на излете «золотого века» Афин, отражают глубокий кризис полисной идеологии и рождение нового типа рефлексии, основанной на бескомпромиссной силе логики и требовании к личной ответственности.
Возникнув в условиях политической нестабильности после Пелопоннесской войны, крушения традиционных ценностей и расцвета софистического релятивизма, ранние диалоги предлагают радикальный ответ на вызовы эпохи. Если софисты провозглашали человека мерой всех вещей, а традиционная мораль держалась на общественных условностях, то Сократ, выступающий центральной фигурой этих диалогов, совершает поворот к личности, но личности, основанной на поиске универсальной истины. Как убедительно показал Ф.Х. Кессиди, сократические беседы были не просто абстрактными дискуссиями, а напряженными интеллектуальными битвами за душу полиса, попыткой найти незыблемое этическое основание для общества, переживающего распад.Философско-исторический контекст: между полисом и личностью Тематическим ядром диалогов является этика, понятая не как свод правил, а как «этика личности». Сократ исследует сущностные понятия – добродетель (арете), справедливость (дике), мужество, благочестие (осиотес) – переводя их из сферы социальных условностей в область личного знания и ответственности. Как отмечал А.Ф. Лосев, здесь происходит «отрыв понятия от вещи», закладывающий основу для будущей платоновской теории идей.Специфика ранних диалогов: эленхос, апория и рождение философского субъекта Методологической основой служит эленхос – сократический опрос, который современная наука (благодаря работам Г. Властоса) понимает как сложную двуединую практику, сочетающую:
1. Деструктивную функцию – разрушение ложного знания и иллюзии компетентности.
2. Конструктивную функцию – неявное указание на путь к истине через демонстрацию противоречий.
Логический тупик, апория, в которой заканчивается большинство ранних диалогов, предстает не как неудача, а как дидактический и протрептический прием. Он создает у читателя «интеллектуальный зуд», состояние «ученого незнания», которое является единственно честной позицией для начала подлинного философского исследования. В интерпретации Х.-Г. Гадамера, апория – это не конец пути, а открытие горизонта для дальнейшего вопрошания, где истина рождается как событие в диалоге.
Современные исследовательские подходы раскрывают многомерность этого феномена.Многогранность интерпретаций: от логики к духовной практике · Историко-филологический подход (Властос, Ч. Кан) сосредоточен на решении «Сократического вопроса» – проблеме разграничения исторического Сократа и литературного образа, созданного Платоном. В то время как Властос предлагал строгие критерии для выделения «сократического» ядра, Кан настаивал на том, что даже ранние диалоги являются целостными литературными произведениями, с самого начала нацеленными на изложение философии самого Платона.
· Аналитическая традиция (Т. Ирвин) видит в Платоне систематического философа, решающего логические парадоксы. Ее представители скрупулезно анализируют структуру аргументов, выявляя лежащие в их основе предпосылки и проверяя их на непротиворечивость.
· Континентальная (герменевтическая) традиция (Гадамер, С.С. Аверинцев) рассматривает диалоги как целостные художественно-философские произведения, где форма неотделима от содержания. Аверинцев блестяще показал, что сократический диалог – это «драма идей», где логика выполняет роль судьбы, ведущей к интеллектуальному катарсису.
· Историко-философский и культурологический подходы (П. Адо, М. Фуко) раскрывают эленхос как «духовное упражнение» и практику «заботы о себе» (epimeleia heautou). В этом свете философия предстает не как теория, а как искусство жизни, технология преобразования субъекта и его способа бытия в мире.
Заключение: актуальность ранних диалогов· Источник для реконструкции учения исторического Сократа (с неизбежными оговорками).
· Блестящие литературные произведения, где драматургия служит философским целям.
· Полигон для отработки фундаментальных логических и этических проблем.
· Модель диалогического общения, остающаяся актуальной для современной герменевтики и философии.
Они знаменуют собой переход от «наивного» морализирования к рефлексивной философии, основанной на логике и требовании к внутренней согласованности знания. Именно в этих текстах рождается фигура философа не как всезнающего мудреца, а как вопрошающего искателя истины, чья миссия – «пробуждать души» и побуждать их к самостоятельному и ответственному мышлению. В этом – непреходящая ценность и сила ранних диалогов Платона.
Характеристика ранних (сократических) диалогов Платона
Ранние диалоги Платона – это корпус текстов, в которых философ, находясь под непосредственным влиянием своего учителя, запечатлел его личность, метод и круг проблем. Их можно охарактеризовать следующими фундаментальными чертами:
1. Сократический Центризм:
Фигура Сократа является абсолютным смысловым и драматургическим центром. Он выступает не как рупор авторских идей Платона, а как исторический Сократ – ироничный, вопрошающий, направляющий беседу.
Цель – не изложение готовой догмы, а живой процесс совместного поиска истины.
2. Этическая Проблематика:
Диалоги сосредоточены на исследовании фундаментальных этических понятий (добродетель – арете, справедливость, мужество, благочестие, умеренность).
Вопрос стоит не «как поступать правильно?», а «что есть сама сущность правильного?». Это поиск универсальных определений.
3. Диалектический Метод (Эленхос):
Основной инструмент – сократический метод опроса (эленхос). Сократ предлагает собеседнику дать определение какому-либо понятию.
Путем последующих вопросов и логического анализа это определение опровергается, выявляя его внутреннюю противоречивость и поверхностность.
Метод обнажает иллюзию знания у собеседника, приводя его к осознанию собственного невежества («Я знаю, что ничего не знаю»).
4. Апорический Финал:
Большинство ранних диалогов заканчиваются апорией (от греч. aporia – безвыходное положение, тупик). Участники беседы не приходят к положительному ответу на главный вопрос.
Смысл апории – не в скепсисе, а в педагогике. Тупик разрушает ложные стереотипы и мотивирует читателя на самостоятельное, более глубокое размышление. Истина не дается, а лишь намечается в процессе ее поиска.
5. Историческое и Философское Значение:
Как исторический документ – это главный источник сведений о личности и учении исторического Сократа, а также уникальный срез интеллектуальной жизни Афин V века до н.э.
Как философский проект – эти диалоги представляют собой «интеллектуальный переворот», сместивший фокус философии с космологии на этику и проблему человека. Они заложили основы европейской рациональной традиции, основанной на диалоге, логике и поиске универсалий.
Таким образом, общая формула раннего диалога: Сократ + этический вопрос + эленхос = апория. Это не законченные трактаты, а философские драмы, разыгрывающие акт познания в реальном
Тематическое ядро: «Этика личности» как ответ кризису полиса.
1. Контекст: Кризис афинского полиса и софистический вызов.· Традиционная мораль: Изначально арете (добродетель) понималась как набор качеств, делающих человека полноценным членом полиса – воина, гражданина, семьянина. Это была этика «чести и славы», укорененная в общественных институтах.
· Вызов софистов: В V веке до н.э. софисты (Протагор, Горгий) подвергли эту традицию сомнению. Их тезис «человек есть мера всех вещей» вел к релятивизму: добродетель – это не объективная сущность, а то, что выгодно или считается таковой в каждом конкретном полисе. Они предлагали техне – искусство убеждать и добиваться успеха, а не познавать истину.
· Сократический ответ: Сократ, внешне похожий на софиста (тоже задает вопросы, тоже подвергает сомнению традицию), на деле занимает прямо противоположную позицию. Он ищет не мнение (doxa) о добродетели, а знание (episteme) о ней, то есть ее универсальную и неизменную сущность.
2. Механизм «отрыва понятия от вещи»: От частного к универсальному.Замечание А.Ф. Лосева о «отрыве понятия от вещи» является фундаментальным. Проиллюстрируем его на примерах из диалогов:
· В «Евтифроне» Сократ спрашивает: «Что такое благочестие (осиотес)?» Евтифрон дает примеры: «преследовать нечестивца». Но Сократ настаивает: «Я просил тебя объяснить не тот или иной частный вид благочестия, а самую его идею». Он ищет не перечень благочестивых поступков (вещей), а логическое определение самой сущности благочестия (понятия).
· В «Лахете» обсуждается мужество. Полководец Лахет определяет его как «стойкость в строю». Но Сократ показывает, что мужество бывает и в морском бою, и в болезни, и в бедности. Следовательно, мужество – это не конкретный вид поведения, а некая единая форма (eidos), проявляющаяся в разных ситуациях. Здесь уже явственно проступают контуры будущей теории идей.
Этот метод – требование общего определения для частных проявлений – и есть тот философский инструмент, который «отрывает» идею справедливости от конкретных справедливых законов, а идею прекрасного – от прекрасных девушек или коней.
3. Личное знание как ответственность: «Забота о себе».Перевод этики в область личного знания влечет за собой колоссальную индивидуальную ответственность. Знание, по Сократу, не бывает безразличным; оно конституирует субъекта.
· Интеллектуалистическая этика: Знаменитый тезис «Никто не зол по доброй воле» (часто встречающийся в ранних диалогах) означает, что зло – следствие незнания, ошибки в рассуждении. Тот, кто поистине знает, что есть добро, не сможет поступить иначе. Таким образом, этика становится функцией гносеологии.
· «Познай самого себя» и «Забота о себе»: Как блестяще показал французский историк философии Пьер Адо, сократовский метод – это практика «духовных упражнений». Цель диалога – не просто найти определение, а преобразовать себя и собеседника. Беседуя о мужестве, Сократ заставляет Лахета задуматься о том, является ли он сам мужественным человеком. Это и есть epimeleia heautou – забота о себе, своей душе (psyche), которая, как утверждается в «Апологии», куда важнее заботы о теле и богатстве.
4. Взгляд из современных исследований.· Грегори Властос (аналитическая традиция) видел в этом ядро «сократовского парадокса»: добродетель – это знание, а значит, ей можно научить (что и пытается делать Сократ). Однако апории показывают, что это знание оказывается чрезвычайно труднодостижимым.
· Мишель Фуко (в лекциях «Герменевтика субъекта») акцентировал именно практический аспект. Для него сократический диалог – это технология себя, процедура, в ходе которой индивид превращает себя в этического субъекта, способного к самоконтролю и исполнению морального закона, который он познал самостоятельно, а не получил извне.
· Отечественная наука (в работах М.А. Солоповой) также подчеркивает, что «личностное измерение» у Сократа не означает субъективизма. Напротив, через личное усилие разума индивид открывает для себя объективный логический порядок, лежащий в основе космоса и этики. Таким образом, личное знание оказывается сопричастным универсальному логосу.
Тематическое ядро ранних диалогов – это грандиозная попытка спасти этику от релятивизма, обосновав ее на непоколебимом фундаменте разума. Путь к этому лежит через радикальное вопрошание, которое переводит мораль из сферы общепринятого (nomos) в сферу лично добытого и проверенного знанием (logos). Именно этот поворот, этот «отрыв понятия от вещи», закладывает не только основы платоновского идеализма, но и всю дальнейшую западную философскую традицию, для которой вопрос о том, как мы можем знать, что есть добро, остается центральным.
Метод (Эленхос): от логической процедуры к духовному преобразованию.
Внутренняя механика и конечная цель метода.Метод (Эленхос): Сократический метод – это не просто «опровержение». В зарубежной науке (напр., у Грегори Властоса) выделяют две основные функции эленхоса:
1. Деструктивная: Разрушение ложного знания, иллюзии компетентности.
2. Конструктивная: Неявное указание на путь к истине через демонстрацию противоречий. Эленхос подразумевает, что истина существует и она непротиворечива. Цель – не унизить собеседника, а «пробудить его душу» к самостоятельному поиску. Российский философ С.С. Аверинцев подчеркивал, что сократический диалог – это «драма идей», где логика служит катарсису.
Современные исследования показывают, что деструктивная и конструктивная функции не просто сосуществуют, а диалектически взаимосвязаны: разрушение (раз-рушение) ложного знания есть одновременно акт строительства нового интеллектуального и экзистенциального состояния собеседника.
Механика «конструктивного опровержения»: Как работает эленхос.Грегори Властос является ключевой фигурой в современном понимании эленкса. Он раскрыл его логическую структуру, показав, что Сократ исходит из нескольких неписаных правил:
· Принцип непротиворечивости: Истина должна быть логически последовательной. Обнаружение противоречия в убеждениях собеседника доказывает, что он не обладает знанием.
· Принцип синергии: Сократ опровергает не произвольные тезисы, а те, которые его собеседник искренне признает в качестве своих устоявшихся убеждений. Опровергается, таким образом, вся система взглядов человека.
Пример из «Горгия»: Сократ приводит Калликла к противоречию между его восхищением сильной личностью, которая преступает закон, и его же неприятием человека, который, будучи сильным, позволяет другим над собой издеваться. Это противоречие не просто логическая ошибка; оно вскрывает экзистенциальный разлад в душе Калликла, который одновременно хочет и быть «сверхчеловеком», и оставаться частью общества, осуждающего такой идеал.
Давайте углубим эту механику, добавив еще один критически важный принцип и рассмотрев последствия этой процедуры для собеседника.
Выделенные принципы Властоса – краеугольный камень современного понимания эленхоса. Давайте представим их в действии как единую систему и добавим третий, неявный, но жизненно важный принцип.
Триада принципов эленхоса по Властосу.
1. Принцип непротиворечивости (The Principle of Non-Contradiction):
o Суть: Это онтологическое основание всего метода. Сократ исходит из того, что реальность и истина устроены логически, а потому знание о них должно быть непротиворечивым. Противоречие – это индикатор лжи или заблуждения.
o На практике: Эленхос – это «логический детектор», настраиваемый на поиск внутренних противоречий в системе убеждений собеседника. Обнаружив его, Сократ доказывает не просто частную ошибку, а факт отсутствия episteme (подлинного знания) в целом.
2. Принцип синергии или «Системности убеждений» (The Principle of Synergy / Commitment):
o Суть: Сократ работает только с теми убеждениями (endoxa), которые собеседник признает своими и которые образуют некую целостную, хотя и неосознанную, картину мира.
o На практике: Сократ не навязывает свои предпосылки. Он выявляет имплицитные убеждения самого собеседника (например, что «лучше претерпеть несправедливость, чем совершить ее» или что «стыдно быть обиженным») и сталкивает их лбами с их же собственными заявлениями (например, что «сильный имеет право на несправедливость»). Опровергается не тезис, а позиция собеседника в целом.
3. Принцип «Равноправия аргументов» (The Principle of Equipollence):
o Суть: Это неявное, но мощное правило. Все убеждения, признанные собеседником как свои, имеют для него равный вес и авторитет. Сократ не позволяет ему в процессе опровержения отбросить одно из них как «неважное». Если ты признал, что справедливость – это благо, а потом заявляешь, что несправедливость полезна, ты не можешь просто проигнорировать первое утверждение. Оба они – часть твоего мировоззрения, и они должны сосуществовать.
o На практике: Именно этот принцип превращает логический конфликт в экзистенциальный тупик. Собеседник не может легко выбраться из апории, потому что он вынужден признать правоту всех своих собственных убеждений, которые вдруг оказались взаимоисключающими.
Пример из «Горгия»: От логики к экзистенции.
· Шаг 1 (Выявление убеждений): Сократ выявляет два фундаментальных убеждения Калликла:
1. Убеждение А (от традиционной морали): Быть обиженным и не дать сдачи – позорно и по-рабски (Горгий, 483a).
2. Убеждение Б (от «сверхчеловека»): Сильный и умный человек (сильный в ницшеанском смысле) по природе имеет право преступать закон и обижать других, и это – подлинная справедливость.
· Шаг 2 (Создание напряжения): Сократ применяет Принцип синергии и Принцип равноправия. Оба убеждения для Калликла истинны и значимы. Он не готов отказаться ни от одного.
· Шаг 3 (Применение Принципа непротиворечивости): Сократ показывает, что эти убеждения несовместимы. Если сильный имеет право обижать (Б), то что мешает другому, еще более сильному, обидеть его самого? А согласно его же убеждению (А), быть обиженным – позорно. Таким образом, идеал Калликла – «сильный, обижающий других» – логически ведет к его же собственному nightmare scenario: «сильный, но обижаемый, а значит, позорный».
· Результат (Апория как экзистенциальный разлад): Калликл оказывается в ловушке. Он не может отказаться ни от А (это слишком глубоко укоренено в его культурном коде), ни от Б (это его новый, желанный идеал). Логический тупик обнажает экзистенциальный разлад: его «я» разорвано между двумя несовместимыми моделями идентичности – «традиционный грек-гражданин» и «сверхчеловек-тиран». Он хочет наслаждаться безнаказанностью «сверхчеловека», но не может вынести позора «жертвы», который является неизбежной тенью его же идеала.
Философский итог механикиТаким образом, механика эленхоса, блестяще проанализированная Властосом, работает как логический катализатор экзистенциального кризиса. Она не просто доказывает, что собеседник ошибся, а демонстрирует ему, что он сам себе противоречит, что его жизненная позиция внутренне несостоятельна. Это и есть тот самый «катарсис», о котором говорил Аверинцев: болезненное, но необходимое разрушение ложной целостности личности, без которого невозможно рождение нового, более подлинного «Я», готового к поиску настоящей истины. Эленхос – это хирургическая операция на душе, проводящаяся скальпелем логики.
2. «Драма идей» как катарсис: Герменевтический и экзистенциальный взгляд.
Метафора С.С. Аверинцева о «драме идей» чрезвычайно продуктивна. Она позволяет увидеть в диалоге:
· Сюжет и конфликт: Есть завязка (вопрос «что есть X?»), развитие действия (поиск определений и их опровержение), кульминация (осознание апории) и развязка (катарсис – интеллектуальное и эмоциональное очищение).
· Роль логики: Логика в этой драме выполняет функцию, аналогичную закону судьбы в трагедии. Она безлична, неумолима и ведет персонажа к неизбежному финалу – осознанию своего незнания. Это и есть катарсис: болезненное, но очищающее избавление от иллюзий и самоуверенности.
Эту линию развивает Х.-Г. Гадамер. Для него эленхос – это не метод в смысле технического инструмента, а форма подлинного общения (диалога), в котором рождается понимание. Апория – это не конец пути, а начало подлинного вопрошания, открытость для истины, которая является не предметом владения, а событием в диалоге.
«Драма идей» как катарсис и диалогическое событие.Метафора Аверинцева и ее развитие у Гадамера позволяют нам увидеть в эленхосе не эпистемологическую процедуру, а онтологическое событие, в котором преобразуется сам способ бытия человека-в-мире.
1. Драматургия как философская форма: От сюжета к преображению
Ваше описание драматургической структуры точно схватывает формальную сторону. Но давайте посмотрим на нее как на путь души:
· Завязка (Протазис): Вопрос «Что есть X?» – это не просто тема для обсуждения. Это вызов, брошенный самодовольному существованию. Собеседник, как трагический герой в начале пьесы, пребывает в состоянии гибрис – интеллектуальной гордыни, уверенный в своем знании.
· Развитие действия (Эпитазис): Поиск и опровержение определений – это серия «перипетий» (внезапных поворотов), где почва уходит из-под ног героя. Каждое опровержение – это удар по его идентичности, построенной на ложных основаниях.
· Кульминация и Развязка (Катастрофа и Катарсис): Осознание апории – это момент катастрофы, крушения всего мировоззренческого каркаса. Но, как и в трагедии, это разрушение – не конец, а очищение (катарсис). Аристотель понимал катарсис как очищение от страстей (страха и жалости) через их проживание. В сократическом диалоге происходит интеллектуальный и экзистенциальный катарсис: очищение от иллюзий, догм и ложной самоуверенности. Душа, освобожденная от «мусора» мнимых знаний, обретает состояние вопрошающей открытости. Это и есть рождение философского субъекта.
2. Гадамер: Эленхос как герменевтический опыт и событие истины
Развитие Гадамером этой линии радикально меняет наш взгляд на цель диалога.
· Истина как событие, а не предмет: Для Гадамера, истина – это не некий статичный объект, который можно «иметь» (как имеют мнение). Это событие (Geschehen), которое случается в процессе диалогического общения. Апория – это не провал в поиске объекта, а кульминационный момент этого события – момент, когда старая, неадекватная интерпретация мира рушится, открывая пространство для новой.
· Открытость вопрошания: В апории собеседник оказывается в состоянии «продуктивной негативности». Его знание опустошено, но именно эта пустота делает его открытым для Другого – для истины, которая может явиться только в диалоге. Как пишет Гадамер, «быть в состоянии диалога – значит быть готовым позволить сказать что-то себе другому». Эленхос и есть та практика, которая формирует эту готовность.
· Герменевтический круг в действии: Диалог – это воплощение герменевтического круга. Собеседники исходят из своих пред-пониманий (часто ложных), сталкиваются с их неадекватностью (в апории) и возвращаются к вопросу с новым, более глубоким пониманием его сложности. Сам вопрос «Что есть мужество?» после «Лахета» звучит уже иначе, он обогащен пройденным путем.
3. Синтез: Логика как Судьба и Диалог как Искусство Бытия
Соединяя Аверинцева и Гадамера, мы видим целостную картину:
· Логика – это безличная Судьба (Аверинцев). Она выполняет роль Ананки (Необходимости), которая неумолимо ведет героя к его судьбе – встрече с его собственным незнанием. Противоречие – это мойра логики, ее рок.
· Диалог – это пространство свободы и встречи (Гадамер). В рамках этой судьбы собеседник сохраняет свободу: признать свою ошибку или уйти, как Калликл, ожесточившись. Подлинный диалог – это риск, акт мужества, в котором человек соглашается подчиниться «логической судьбе», чтобы обрести более высокую свободу – свободу от заблуждения.
Эта драма является искусством бытия (techne tou biou) в античном смысле. Ее цель – не просто передача информации, а формирование определенного типа человека: смиренного перед лицом истины, но активного в ее поиске, умеющего сомневаться и вопрошать.
«Драма идей» – это не просто красивая метафора. Это ключ к пониманию того, что философия для Платона была не системой доктрин, а живым, драматическим actом самопреобразования. Эленхос, ведущий к апории, – это кульминация первого акта этой драмы. Он не дает ответа, но радикально меняет самого вопрошающего, подготавливая его ко второму акту – возможному прорыву к истине, который уже будет не просто усвоением информации, а личностным прозрением, рожденным в огне диалога.
3. Эленхос как «духовное упражнение»: Технология себя.
Взгляд Пьера Адо и Мишеля Фуко позволяет нам увидеть в эленхосе практику «заботы о себе» (epimeleia heautou).
· Цель – преобразование субъекта. Задача Сократа – не наполнить голову собеседника информацией, а изменить его самого, его способ существования. Опровергая готовые ответы, он заставляет душу двигаться, приходить в состояние удивления (начало философии, по Платону) и активного поиска.
· Эленхос как самопознание. Проходя через процедуру эленхоса, собеседник не столько узнает что-то о мужестве или справедливости, сколько узнает о себе: насколько его убеждения непрочны, насколько его жизнь не соответствует провозглашаемым им же принципам. В этом смысле эленхос – это практическое исполнение дельфийской максимы «Познай самого себя».