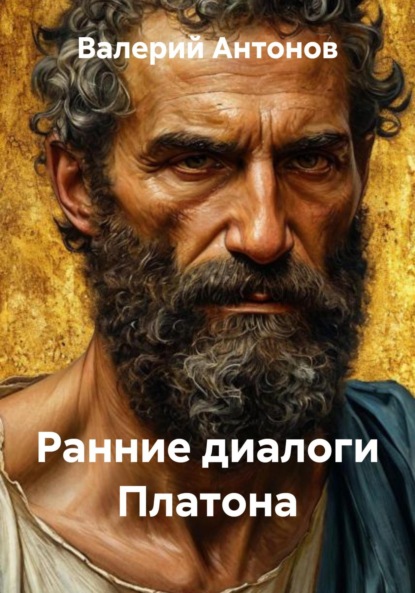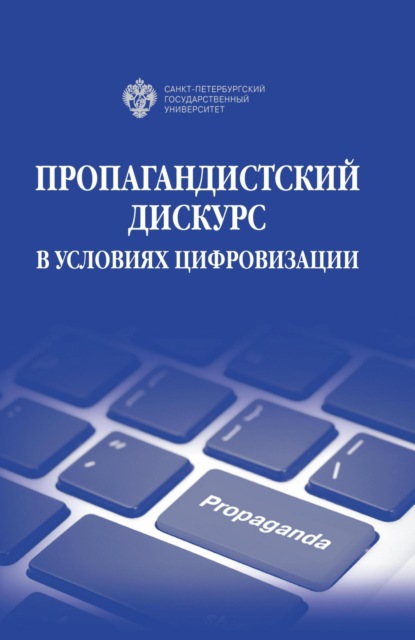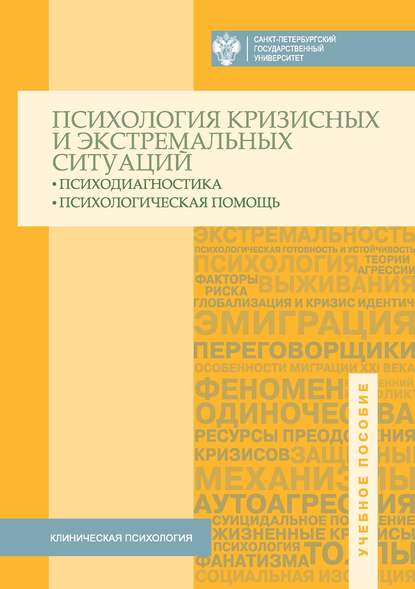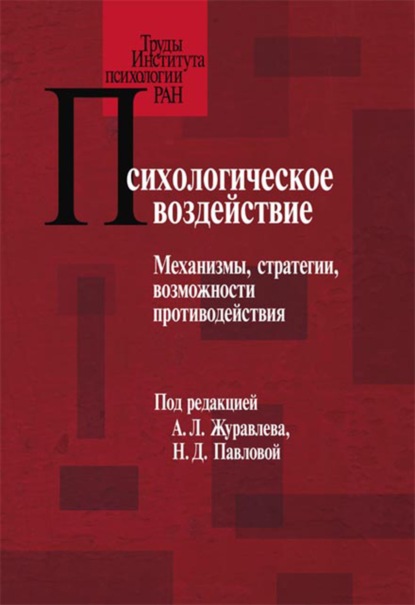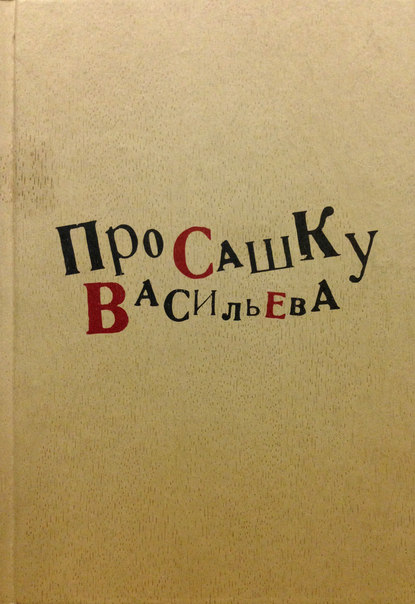- -
- 100%
- +
Давайте детально развернем эту перспективу, углубившись в концепции Адо и Фуко и показав, как именно эленхос функционирует как «технология себя».
Эленхос как «духовное упражнение» и «технология себя»Подход Пьера Адо и Мишеля Фуко переводит понимание эленхоса из гносеологической в экзистенциально-практическую плоскость. Философия здесь – это не теория, а образ жизни, а ее методы – конкретные психотехники для работы над собой.
1. «Забота о себе» (Epimeleia Heautou) как философский императив.
И Адо, и Фуко показывают, что знаменитое сократовское «познай самого себя» (γνῶθι σαυτόν) было лишь частью более широкого императива – «заботься о себе» (ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ).
· Смещение акцента: Познание – не конечная цель, а средство и составная часть этой заботы. Нельзя познать себя, не прилагая усилий по преобразованию себя, и нельзя по-настоящему заботиться о себе, не познав свою природу, свои слабости и заблуждения.
· Эленхос как ядро этой заботы: Именно сократический диалог является главной практикой, реализующей этот императив. Это не дискуссия ради победы, а духовное упражнение (askēsis), в котором участвуют оба собеседника. Для Сократа это упражнение в педагогике и служении истине, для собеседника – в мужестве, смирении и самопознании.
2. Механика преобразования: Как эленхос работает как «технология себя».
Фуко, анализируя античные «техники себя», описывает эленхос как процедуру, позволяющую индивиду осуществить определенные операции со своим собственным сознанием, чтобы трансформировать себя.
· «О-существление» (Objectivation) убеждений: Первый шаг – вытащить смутные, неотрефлексированные мнения (doxai) из глубин сознания и облечь их в четкие, логические формулировки («Мужество – это стойкость в строю»). Эленхос заставляет собеседника объективировать свои внутренние установки, превратить их в объект для критического рассмотрения.
· «Испытание» (Examination) на прочность: Второй шаг – подвергнуть эти объективированные убеждения стресс-тесту на логическую непротиворечивость. Это аналог физического упражнения, где мышца рвется, чтобы стать сильнее. Здесь рвется ткань ложного знания, чтобы на ее месте могло возникнуть знание истинное.
· «От-чуждение» (Alienation) от ложного «Я»: Апория – ключевой момент. Переживание тупика – это переживание краха той идентичности, которая была построена на неверных основаниях. Собеседник вдруг осознает: «Тот, кто думал, что знает, что такое справедливость, – это не я». Происходит отчуждение от прежнего, «невежественного Я». Это болезненный, но необходимый акт самоотречения.
· Создание «места» для нового Я: Опустошенность после апории – это не вакуум, а пространство возможности. Очищенное от догм и предрассудков, оно становится вместилищем для подлинного, вопрошающего «Я», которое больше не отождествляет себя с набором готовых ответов.
3. Эленхос как практика свободы.
С точки зрения Адо, конечная цель всех духовных упражнений – достижение внутренней свободы.
· Свобода от страстей (pathē): Ложные мнения порождают ложные страсти (страх, жадность, жажду власти). Доказывая их несостоятельность, эленхос лишает эти страсти их интеллектуальной основы. Зачем стремиться к власти как к высшему благу, если в ходе диалога выяснилось, что ты не можешь даже определить, что такое «благо»?
· Свобода для разума (logos): Освободившееся место занимает активный, вопрошающий разум. Состояние апории – это и есть состояние максимальной свободы мысли, не скованной догмами. Человек теперь способен следовать за аргументом туда, куда он ведет, а не туда, куда ему хочется.
4. Отечественный контекст: «Испытание на человечность».
В отечественной традиции этот взгляд находит отклик в интерпретациях, акцентирующих антропологическое измерение платоновской мысли. Ранние диалоги видятся не только как гносеологические трактаты, но как «испытание на человечность». Эленхос проверяет не только знания собеседника, но его способность к сомнению, диалогу, самокритике и моральной рефлексии – то есть, в конечном счете, его способность быть философом, а значит, по Сократу, и подлинным человеком.
Взгляд Адо и Фуко позволяет нам увидеть в сократическом эленхосе мощнейшую психотехнику античности. Это не просто «метод ведения диалога», а:
· Духовная практика по преобразованию собственного бытия.
· Этика интеллектуальной честности, доведенная до уровня аскезы.
· Технология самопреодоления, где через разрушение ложной идентичности происходит рождение субъекта, способного к подлинному вопрошанию и, следовательно, к подлинной жизни.
Эленхос – это упражнение в том, чтобы быть, а не просто знать. И апория в этом свете – не конец пути, а свидетельство того, что упражнение выполнено правильно: старый, неавторитетный голос умолк, и в наступившей тишине может прозвучать голос истины.
4. Отечественный контекст: от формальной логики к экзистенциальному смыслу.
В отечественной традиции, помимо Аверинцева, эту тему развивал А.Ф. Лосев. Он подчеркивал, что сократический диалог – это живой, интуитивно-диалектический процесс, который нельзя свести к формальной логике. Лосев видел в эленхосе проявление «субстанциального характера» античной философии, где мысль неотделима от бытия и жизни мыслящего индивида. Разрушая ложное знание, Сократ очищает место для подлинного, онтологически укорененного знания-бытия.
Лосев предлагает взгляд на эленхос, который выводит его за рамки не только формальной логики, но и отчасти герменевтики, укореняя его в самой структуре бытия. Давайте развернем эту глубокую мысль.
Отечественный контекст и онтологический эленхос А.Ф. Лосева.
В отличие от западных аналитических (Властос) или даже континентальных (Гадамер, Адо) подходов, Лосев предлагает взгляд на эленхос как на фундаментальный онтологический акт, в котором раскрывается сама природа реальности.
1. Критика формально-логического редукционизма.
Лосев решительно выступал против сведения диалектики Платона к формальной логике. Для него эленхос – это не просто система правильных умозаключений, а живой, интуитивно-диалектический процесс.
· Живой процесс: Диалог для Лосева – это не застывшая логическая схема, а "драма живой человеческой мысли", столкновение не просто мнений, а целостных личностей с их экзистенциальными позициями. Логика здесь – не внешний судья, а имманентная пружина этого столкновения.
· Интуитивно-диалектический: Это ключевой термин. Лосев подчеркивает, что Сократ оперирует не готовыми понятиями, а "интуициями сущностей". Он заставляет собеседника не просто перебирать определения, а всматриваться в саму суть (eidos) явления, пытаться ее "ухватить" умственным взором. Диалектика – это не спор, а "логос о сущем", искусство видеть, как сущность проявляет себя в противоречиях.
2. «Субстанциальный характер» античной философии: Тождество бытия и мышления.
Это центральный пункт лосевской интерпретации. В отличие от новоевропейского субъект-объектного отношения, где мысль противопоставлена бытию, для античного (и особенно платоновского) сознания мысль (logos) и бытие (on) субстанциально едины.
· Мысль как бытие: Заблуждение – это не просто ошибка в вычислении. Это онтологический дефект, ущербный способ бытия души. Ложное мнение – это когда душа прилепляется к чему-то неистинному, мнимому, и потому сама становится менее "сущей", менее реальной.
· Эленхос как онтологическая чистка: Следовательно, разрушая ложное знание, Сократ совершает не гносеологическую коррекцию, а онтологическое врачевание души. Он выжигает из нее причастность к небытию (лжи, иллюзии), чтобы освободить место для причастности к подлинному бытию – Идее. Опровержение – это акт помощи душе в ее возвращении к самой себе, к своей собственной истинной и разумной природе.
3. Знание-бытие (Gnosis-On) как цель эленхоса.
Целью диалога, по Лосеву, является не просто получение информации, а обретение онтологически укорененного знания.
· Знание как причастность: Познать Идею Справедливости – значит не дать ей вербальное определение, а стать причастным ей, уподобиться ей. Знание тождественно бытию: чтобы знать справедливость, надо быть справедливым. Чтобы знать мужество, надо быть мужественным.
· Апория как подготовка онтологического сдвига: Поэтому апория – это не просто тупик. Это момент, когда почва старого, неаутентичного бытия уходит из-под ног. Это kenosis (опустошение), необходимое для того, чтобы душа стала восприимчивой к интуиции подлинного бытия. Она очищает не только интеллект, но и само экзистенциальное "место" в душе для нового, онтологически полноценного способа существования.
4. Лосев и другие традиции: Синтезирующая позиция.
Лосевская трактовка не отрицает другие подходы, но помещает их в более широкий, онтологический контекст:
· По отношению к Властосу: Лосев согласился бы, что логическая непротиворечивость важна, но увидел бы в ней не правило игры, а отражение онтологической цельности и непротиворечивости самого бытия. Противоречие в речи – симптом противоречия в бытии души.
· По отношению к Гадамеру: Идея "события истины" очень близка Лосеву. Но для Гадамера это событие происходит в диалоге между людьми, а для Лосева – в первую очередь в диалоге души с самим бытием, где собеседник – лишь катализатор.
· По отношению к Адо/Фуко: Концепция "духовного упражнения" и "заботы о себе" почти напрямую перекликается с лосевским "врачеванием души". Однако Лосев делает более сильный онтологический акцент: забота о себе – это не просто этика или технология себя, а метафизическая необходимость возвращения души в ее естественное, умопостигаемое состояние.
Заключение:Таким образом, отечественная традиция в лице А.Ф. Лосева предлагает нам увидеть в сократическом эленхосе метафизический инструмент. Это практика, с помощью которой:
1. Индивид прорывается от мнения (doxa), привязанного к миру становления, к знанию (episteme), причастному миру вечных сущностей.
2. Душа не просто "узнает что-то", а онтологически преображается, становясь более реальной, более "сущей", воссоединяясь с источником своего бытия – миром идей.
Эленхос, в этом свете, – это не просто первый шаг философии, а ее квинтэссенция: постоянное усилие по утверждению бытия через отрицание небытия в себе.
5. Эленхос как ядро философского акта.
Таким образом, сократический эленхос предстает не как простой метод опровержения, а как многомерная практика, объединяющая в себе:
1. Логическую процедуру (выявление и разрешение противоречий по Властосу).
2. Драматургическое действие (катарсис через «драму идей» по Аверинцеву и Гадамеру).
3. Этико-экзистенциальное упражнение («забота о себе» и преобразование субъекта по Адо и Фуко).
Его конечная цель – не победа в споре, а «пробуждение души», приведение ее в состояние, готовое к восприятию истины. Апория, таким образом, – это не провал, а успех метода: она маркирует момент гибели наивной самоуверенности и рождения подлинного, вопрошающего философского отношения к миру и к себе. Именно в этом «пустом» после эленхоса пространстве и может произрасти настоящее знание.
Давайте оформим этот вывод, подчеркнув его ключевые импликации и место в истории мысли.
Эленхос как Ядро Философского Акта – Рождение Философствующего Субъекта.
Эленхос – это не «шаг» в философском методе, а сам акт философствования в его изначальной, чистой форме. Это практика, в которой гносеология, онтология и этика слиты в нерасторжимое единство.
Триединство эленхоса как целостного акта:1. Логическая процедура (Работа с Logos): Эленхос обеспечивает интеллектуальную честность. Без этой безжалостной проверки на непротиворечивость любое «пробуждение души» рискует скатиться в безответственный мистицизм или риторику. Это скелет метода, его структурная основа.
2. Драматургическое действие (Работа с Pathos): Эленхос обеспечивает экзистенциальную вовлеченность. Без драмы, катарсиса и личного столкновения с апорией логика остается холодной и безжизненной игрой ума. Это кровь и плоть метода, его энергия и движущая сила.
3. Духовное упражнение (Работа с Ethos): Эленхос обеспечивает личностное преображение. Без цели преобразовать самого субъекта, его способ бытия в мире, и логика, и драма теряют свой высший смысл. Это душа метода, его конечная цель.
Апория как «Философское Kenosis» (Опустошение)Характеристика апории как «успеха метода» и «пустого пространства» – ключевая. Это позволяет провести мощную параллель с концепцией kenosis (греч. κένωσις – опустошение) в мистико-философской традиции.
· Апория – это kenosis интеллекта: Насильственное или добровольное опустошение ума от всех готовых ответов, догм и «мнений» (doxai). Это акт смирения разума перед лицом незнания.
· Цель kenosis – plerosis (наполнение): Опустошение создает сосуд, способный вместить нечто новое и более высокое. Апория подготавливает душу к восприятию истины не как внешней информации, а как внутреннего озарения, рождающегося из глубины этого «пустого» и потому открытого пространства.
Таким образом, эленхос – это ритуал философского инициации, где через kenosis апории рождается новый тип субъективности: «homo interrogans» – человек вопрошающий.
Историко-философское значение: Разрыв с традициейЭтот синтез позволяет увидеть радикальную новизну Сократа и Платона:
· Разрыв с досократиками: В отличие от поиска архе (первоначала) в природе, Сократ переносит поиск основы в логос и в душу человека. Эленхос – это метод этого «поворота к человеку».
· Разрыв с софистами: В отличие от софистов, использовавших логику для победы и убеждения, Сократ использует ее для поиска истины и преобразования себя и собеседника. Эленхос – это анти-риторика.
· Заложение фундамента западной философии: В этом акте – корни платоновской диалектики, аристотелевской логики, августиновской интроспекции, картезианского метода радикального сомнения и кантовской критики чистого разума. Все они, так или иначе, являются вариациями на тему «пробуждения души» через испытание ее собственными основаниями.
Окончательный вывод:Сократический эленхос, рассмотренный через призму современных исследовательских традиций, предстает не как архаичный прием, а как живая парадигма философского поиска. Это – прото-акт философии, в котором:
· Рождается субъект (через катарсис и духовное упражнение).
· Испытывается истина (через логическую процедуру).
· Конституируется само пространство мысли как открытое, вопрошающее и диалогическое.
Именно поэтому диалоги Платона, особенно ранние, остаются неиссякаемым источником философского вдохновения: они запечатлели не результат мысли, а сам процесс мышления как драму человеческого духа, стремящегося к истине. Апория – это не конец, а свидетельство того, что диалог был подлинным, а душа собеседника и читателя – затронута по-настоящему.
Апория как философский итог: Тупик в конце диалога – это не признак неудачи, а дидактический и протрептический прием (протрептик – побуждение к занятию философией). Апория создает у читателя «интеллектуальный зуд», состояние «ученого незнания», которое является единственно честной позицией для начала подлинного философского исследования. Этот прием показывает, что этические понятия не могут быть просто заучены, как мнение софистов, а требуют глубинного переосмысления.
· Проблема «Сократического вопроса»: Роль Платона здесь сложнее. Ранние диалоги – это ядро так называемого «Сократического вопроса» – проблемы разграничения исторического Сократа и Сократа литературного. Большинство зарубежных исследователей (Властос, Ч. Кан) сходятся во мнении, что в ранних диалогах Платон в основном аутентично передает метод и тип философствования своего учителя. Однако это уже «платоновский Сократ» – художественный образ, служащий целям самого Платона. Отечественная платонистика (М.А. Солопова, Ю.А. Шичалин) также акцентирует, что даже в самых ранних текстах мы имеем дело не с протоколом бесед, а с философско-художественной реконструкцией, где уже проглядывают контуры будущей платоновской системы (например, идея о примате души над телом в «Апологии» и «Критоне»).
Мы выделили два краеугольных камня, на которых стоит все современное понимание ранних диалогов Платона: функциональная роль апории и проблема «Сократического вопроса». Давайте детально развернем каждый из этих пунктов, углубив их за счет нюансов и современных научных дебатов.
Апория как философский итог: Дидактика «ученого незнания»
Апории – это не тупик, а стратегический ориентир, переворачивающий привычное отношение к знанию.
Aнализ функций апории:1. Гносеологическая «перезагрузка»: Апория выполняет функцию, аналогичную картезианскому радикальному сомнению. Она разрушает наивно-реалистическое отношение к языку и понятиям. Собеседник (и читатель) понимает, что слова «справедливость» или «мужество», которые он привык употреблять, не имеют для него ясного и устойчивого содержания. Это обвал «символического порядка», который заставляет вернуться к самым основам.
2. Этическая провокация: Апория ставит под вопрос не только знание, но и жизненную практику. Если никто не может определить, что такое благочестие («Евтифрон»), то на каком основании Евтифрон предает собственного отца суду? Если мы не знаем, что такое мужество («Лахет»), можем ли мы считать себя мужественными или воспитывать в нем детей? Апория выявляет пропасть между жизнью и рефлексией, заставляя эту рефлексию совершить.
3. Создание «сообщества вопрошания»: Апория нивелирует иерархию между Сократом и его собеседником. В точке незнания оказываются все. Это создает не сообщество обладателей истины, а «философскую общину» (koinonia), объединенную совместным поиском. Читатель также приглашается в это сообщество, испытывая тот же «интеллектуальный зуд».
4. Связь с будущей теорией идей: Апория демонстрирует, что чувственный опыт и обыденное сознание неспособны дать определение этическим понятиям. Это неявно указывает на то, что их источник и сущность лежат в ином, умопостигаемом плане бытия. Таким образом, апория готовит философское основание для введения мира Идей как единственного способа разрешить эти тупики.
Проблема «Сократического вопроса»: Где заканчивается Сократ и начинается Платон?
Развитие дискуссии в зарубежной науке:· Грегори Властос и «эволюционистская модель»: Властос предложил строгие критерии для разделения «сократического» и «платонического» периодов. Для него ранние диалоги – это в основном исторический Сократ, чья философия характеризуется:
o Интеллектуалистической этикой («добродетель – это знание»).
o Методом эленхоса.
o Отсутствием теории идей и учения о бессмертии души в ее метафизическом смысле.
o Тезисом «никто не зол по доброй воле».
· Ч. Кан и «унитарный подход»: Кан оспорил эту модель. Он утверждает, что Платон с самого начала был системным мыслителем, а «сократические» диалоги – это не стадия развития, а литературный жанр, выбранный для определенных целей. «Сократ» Платона – с самого начала рупор его собственных идей, просто на раннем этапе эти идеи выражены в негативной, вопрошающей форме. Для Кана не существует «исторического Сократа», доступного нам помимо литературных интерпретаций.
· Компромиссная позиция: Большинство современных исследователей занимают промежуточную позицию. Они признают, что Платон в ранних диалогах стремился запечатлеть дух, метод и тип проблематики исторического Сократа. Однако сам художественный отбор, драматургия и неизбежная интерпретация превращают этот образ в философский конструкт – «платоновского Сократа», который служит целям самого Платона.
Развитие дискуссии в отечественной науке:· А.Ф. Лосев и М.А. Солопова: Подчеркивают художественно-философское единство диалогов. Для них попытка жестко отделить Сократа от Платона методологически порочна, так как мы имеем дело с целостным произведением искусства, где историческая достоверность подчинена философской задаче. Солопова указывает, что даже в «Апологии» мы видим не стенограмму суда, а философский манифест, где Платон средствами драмы отстаивает определенный тип мудрости.
· Ю.А. Шичалин: Акцентирует школьный контекст. Диалоги создавались не как исторические документы, а как учебные тексты для Академии. Их цель – не зафиксировать прошлое, а обучить определенному способу мышления. Фигура Сократа здесь является идеальной дидактической моделью философа. Поэтому вопрос о том, «где тут Сократ, а где Платон», для самого Платона и его первых читателей мог не стоять так остро, как для современных филологов.
Примеры «прорастания» платонизма в ранних диалогах:
· «Апология» и «Критон»: Идея примата души над телом и необходимости заботиться о душе в первую очередь – это уже шаг к платоновскому дуализму и учению о бессмертии души.
· «Горгий»: Миф о загробном суде в конце диалога – это уже не просто сократическая этика, а развернутая эсхатологическая картина, предполагающая онтологическое обоснование справедливости, что характерно для зрелого Платона.
· Поиск определений: Сам поиск единой сущности (eidos) за множеством проявлений – это методологическая предпосылка теории идей.
Таким образом, ранние диалоги Платона – это динамическое поле напряжения между верностью учителю и собственным философским гением автора.
· Апория – это не финал, а инкубатор подлинной философии, выводящий мысль за пределы привычного.
· «Сократический вопрос» напоминает нам, что перед нами – не фотографический снимок, а философский портрет поразительной глубины. В нём исторический Сократ и гений Платона сливаются воедино, порождая образ, навсегда определивший самую суть того, что значит быть философом.
Именно в этом напряжении между верностью духу учителя и мощью собственной мысли рождается уникальный феномен, который мы называем философией Платона.
Традиции и подходы к изучению ранних диалогов в зарубежной и отечественной науке.Исследовательские подходы к ранним диалогам можно условно разделить на несколько ключевых традиций.
1. Историко-филологический подход.Этот подход является фундаментом, на котором строятся все дальнейшие интерпретации. Его суть – не в эстетическом или философском восприятии текста, а в его использовании как исторического источника для решения конкретной научной проблемы.
1. Методология и «Свидетельские показания».
Исследователи, работающие в этой парадигме, действуют как следователи, имеющие три основных типа показаний, каждое из которых проблематично:
· Платон: Самый полный и философски насыщенный источник. Но главный вопрос – где в его диалогах заканчивается Сократ и начинается сам Платон? Для решения этого используется «принцип развития»: предполагается, что философия Платона эволюционировала, и в ранних диалогах он был ближе к учению учителя.
· Ксенофонт: Его «Воспоминания о Сократе» и другие сократические сочинения изображают добропорядочного моралиста, дающего практические советы. Это создает «загадку Ксенофонта»: как один и тот же человек мог вдохновить и Платона, и Ксенофонта? Часто считается, что Ксенофонт, будучи солдатом и практиком, упростил и приземлил образ Сократа, не поняв глубины его философских поисков.
· Аристофан: В комедии «Облака» Сократ изображен как шарлатан, софист и «спутник небесных явлений». Это карикатура, но карикатура, основанная на узнаваемых чертах. Аристофан фиксирует внешнее, популярное восприятие Сократа афинянами, что является ценным историческим свидетельством о его публичном образе.
2. Зарубежная наука: Дилемма «Эволюционизм и Унитаризм»
Ваше противопоставление Властоса и Кана – это стержень современной дискуссии.
· Грегори Властос и «Эволюционистская модель»: Властос предложил не просто интуитивное разделение, а строгий набор критериев:
o Метод: В ранних диалогах – исключительно деструктивный эленхос. В средний период появляется позитивная диалектика как метод восхождения к Идеям.
o Этика: Ранний Сократ утверждает, что добродетель едина (знание блага), а ее частные проявления (мужество, благочестие) неотделимы друг от друга. Зрелый Платон рассматривает добродетели как отдельные качества души.
o Метафизика: Для раннего Сократа не существует отдельного мира Идей. Теория Идей – продукт зрелого творчества Платона.
o Психология: Тезис «Никто не зол по доброй воле» подразумевает, что знание автоматически ведет к правильным поступкам. У зрелого Платона появляется учение о трехчастной душе, где разуму приходится бороться со страстями и вожделениями.
· Ч. Кан и «Унитарный» или «Протрептический» подход: Кан атаковал саму основу эволюционизма. Он доказывал, что диалоги Платона с самого начала были задуманы как части единого литературно-философского проекта.
o Цель – не историческая, а протрептическая. Ранние диалоги, заканчивающиеся апорией, должны были не зафиксировать учение Сократа, а спровоцировать читателя, вывести его из состояния самодовольства и подготовить к восприятию более сложных идей, которые изложены в средних диалогах.