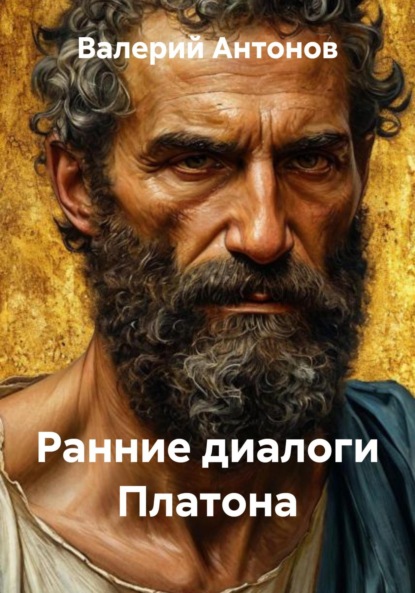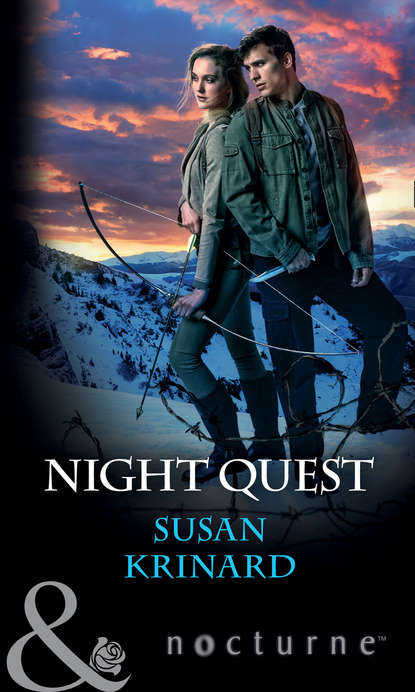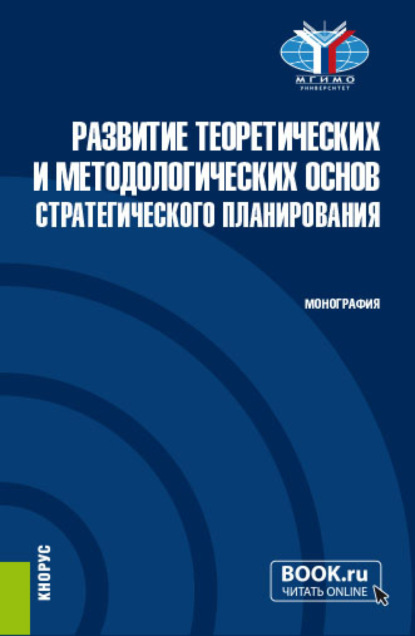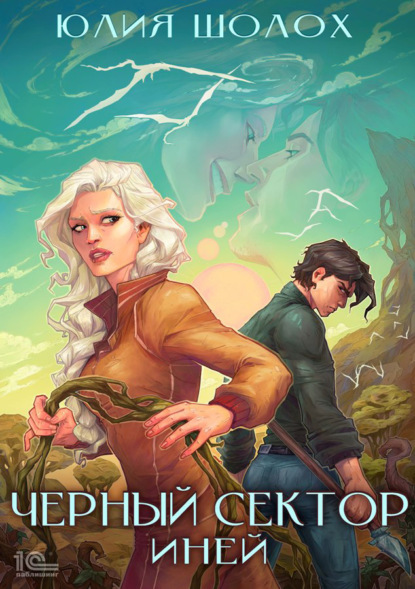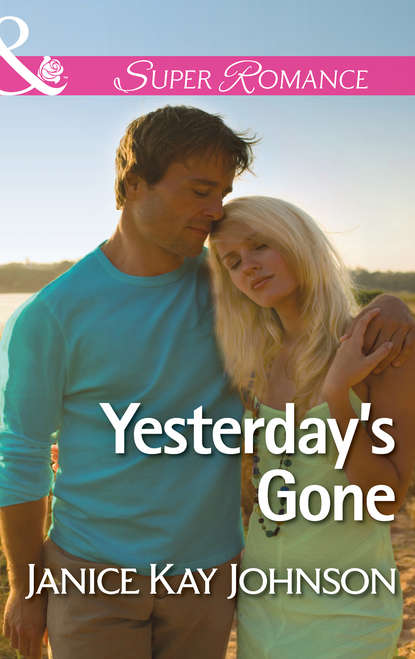- -
- 100%
- +
5. Солопова, М.А. Платон. М.: РГГУ, 2013.
· Описание: Современное и компактное введение в философию Платона, написанное с учетом новейших достижений мировой науки. Солопова уделяет значительное внимание ранним диалогам, рассматривая их в контексте единого замысла Платона и дидактических задач его Академии.
6. Тахо-Годи, А.А. «Миф у Платона как действительное и воображаемое» // Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979.
· Описание: Важнейшая работа, демонстрирующая, что миф в диалогах Платона – не украшение, а особый, символический способ философского высказывания. Тахо-Годи доказывает, что миф является продолжением диалектики, обращенным ко всей целостности человеческой души.
Этот список предоставляет надежную основу для глубокого изучения ранних диалогов Платона с различных методологических позиций.
Апология Сократа (речь на суде).
1. Вступление к диалогу Платона «Апология Сократа»«Апология Сократа» Платона представляет собой не столько защитительную речь в общепринятом смысле, сколько манифест философского служения, где сама жизнь и смерть Сократа становятся главным аргументом в споре между истиной и мнением, между долгом перед божественным призванием и конформизмом человеческой толпы.
Сократ, стоя перед судом афинян, избирает стратегию, парадоксальную с точки зрения обычной судебной риторики. Вместо того чтобы льстить судьям и умолять о пощаде, он выстраивает свою защиту как последовательное изложение и оправдание своего образа жизни. Его речь можно разделить на три фундаментальных акта, раскрывающих суть конфликта:
1. Опровержение «давней клеветы» и объяснение источника своей миссии.
Сократ начинает не с формальных пунктов обвинения, а с разоблачения того карикатурного образа, который сложился о нем в массовом сознании под влиянием комедии Аристофана «Облака» и подобных ей памфлетов. Он предстает не как «софист» или «натурфилософ», исследующий «небесное и подземное», а как человек, получивший от дельфийского оракула повеление проверить утверждение о своей мудрости. Это расследование привело его к ключевому открытию: его мудрость заключается в осознании собственного неведения. «Я знаю, что ничего не знаю» – это не смирение, а отправная точка для подлинного философского поиска, противопоставленная самоуверенному невежеству тех, кто мнит себя знающим.
2. Философское служение как причина ненависти.
Сократ прямо связывает свою непопулярность с исполнением божественной воли. Его метод «испытания» (эленхос) – диалоги с политиками, поэтами и ремесленниками – выявлял не их узкоспециальные навыки, но фундаментальное невежество в вопросах добродетели, справедливости и блага. Это вызывало глубочайшую обиду и ненависть, усугубляемую действиями его молодых последователей, которые, подражая ему внешне, использовали его методы для насмешек и самоутверждения. Таким образом, обвинения в «развращении молодежи» и «безбожии» предстают не как причина, а как следствие его деятельности, болезненная реакция общества на пробуждение от догматической спячки.
3. Доказательство принципов делами и отказ от компромисса.
Кульминацией защиты становятся не слова, а поступки. Сократ напоминает судьям о двух случаях, когда он, рискуя жизнью, отказался участвовать в беззаконии: при демократии, воспротивившись незаконной казни стратегов после битвы при Аргинусах, и при тирании Тридцати, отказавшись выполнить преступный приказ арестовать невиновного Леонта. Эти примеры доказывают, что его верность справедливости не была пустым звуком. Завершает же свою линию защиты он принципиальным отказом от традиционных для афинского суда унизительных приемов: приводить плачущих детей и родственников, дабы разжалобить судей. Для Сократа такой путь был бы предательством философии, ибо оправдаться можно только «посредством разъяснения и убеждения», а не «просьбами», унижающими достоинство и суда, и подсудимого.
«Апология» – это глубоко трагический и одновременно победоносный текст. Сократ проигрывает судебный процесс, но выигрывает главный спор. Он показывает, что суд над ним – это на самом деле суд Афин над самими собой, испытание их способности жить по законам разума и справедливости. Его последующее предложение о наказании в виде пожизненного содержания на Публике и непоколебимость перед лицом смертного приговора лишь подтверждают эту позицию. Диалог Платона становится вечным напоминанием о цене, которую приходится платить за то, чтобы оставаться верным истине, и о том, что подлинное благочестие заключается не в ритуале, а в служении добру через неустанную работу разума.
1: Вступление. Ответ на старые обвинения.
ПОСЛЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕЙ. Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 18a-18e, 19b):
οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ διαβάλλοντες… ἀκούοντες γὰρ οἴονται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν…«Πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἀπολογήσασθαι… ἀκούοντες… ὡς ἔστι Σωκράτης σοφός ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ under the earth (τὰ under γῆς) πάντα ἀνεζητηκώς, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. Ἔστιν δὲ οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οἱ ταύτην τὴν φήμην διασπείραντες, οἱ δεινοί μου κατήγοροι. Ἀκούοντες γὰρ οἴονται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν.
Εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πάλαι κατηγοροῦντες…»
Перевод и структурирование:
(18a-c) «Прежде всего, мне следует защищаться… от первых моих обвинителей и от их первых клевет… Вы слышали их с детства, они убеждали вас в истинности многих лживых обвинений против меня. Говорят, что есть некий Сократ, мудрый муж, мыслящий о небесном и исследующий все, что под землею, и слабейший аргумент превращающий в сильнейший.
(18d) Вот кто мои клеветники… ибо слушающие их думают, что те, кто исследуют такие вещи, не признают и богов.
(18e) Эти-то люди, о мужи афиняне, и распространили эту молву, они и есть мои грозные обвинители.
(19b) Обвинителей этих много, и обвиняют они уже давно…»
Сократ начинает свою защиту не с ответа на официальное обвинение Мелета, а с опровержения «давней клеветы». Этот риторический ход считается гениальным, и вот как его объясняют исследователи.
1. Почему Сократ начинает со «старых обвинителей»? Стратегическая глубина.
Комментарий зарубежного исследователя (Регинальд Хэкни, "Платон: Апология Сократа"):
«Сократ понимает, что настоящая опасность исходит не от юридического обвинителя Мелета, а от того предубеждения, которое годами складывалось в умах судей. Он апеллирует не к закону, а к психологии толпы. Обвинение в "безбожии" и "развращении молодежи" было лишь симптомом более глубокого недуга – непонимания и страха перед его философским методом. Атакуя корень проблемы – "давнюю клевету", – он пытается вырвать сорняк, на котором вырос формальный донос».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит четкое различие между "первыми" и "последними" обвинителями. "Первые" – это не конкретные лица, а коллективный образ общественного мнения, сформированный комедией Аристофана "Облака" и подобными ей памфлетами. В "Облаках" Сократ изображен как софист, занимающийся пустыми и вредными умствованиями. Таким образом, Сократ борется не с человеком, а с карикатурой на себя, созданной в массовом сознании. Это делает его задачу невероятно трудной».
2. Суть «давней клеветы»: Сократ как «натурфилософ» и «софист».
Текст оригинала указывает на три компонента клеветы:
1. «Мыслящий о небесном» (τὰ μετέωρα φροντιστής): Исследующий природу космоса.
2. «Исследующий все, что под землею» (τὰ under γῆς πάντα ἀνεζητηκώς): Изучающий явления, не доступные глазу.
3. «Слабейший аргумент превращающий в сильнейший» (τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν): Владение искусством риторики для доказательства заведомо ложных тезисов.
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит, "Сократ на суде"):
«Сократ мастерски объединяет два несовместимых с его реальной деятельностью образа. Образ натурфилософа (в духе Анаксагора, который действительно исследовал "небесное") и образ софиста (в духе Протагора, учившего риторике за деньги). Афиняне не видели между ними разницы, для них это был общий тип "ученого бездельника", подрывающего традиционные устои. Сократ же был ни тем, ни другим. Его "мудрость" была практической и этической, а не космологической или риторической».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Обвинение в "изучении небесного" было политическим. После истории с Анаксагором, которого изгнали за утверждение, что солнце – раскаленный камень, такие занятия считались покушением на божественность светил, а значит, и на религиозную основу полиса. Обвинение в "сильных речах" было социальным: народ боялся, что такие люди, как Сократ, могут "переубедить" молодежь, отвратить ее от родителей и общественных обязанностей. Сократу предъявили обвинение в "подрыве государственного строя", но в замаскированной форме».
3. Связь с «безбожием»: логика общественного предрассудка.
Ключевая фраза: «слушающие их думают, что те, кто исследуют такие вещи, не признают и богов».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев, "Плутарх и античная биография"):
«В традиционном греческом сознании (т.н. "полисная религия") боги неотделимы от устоявшегося космического и социального порядка. Тот, кто пытается рационально объяснить гром и молнию (как Фалес) или движение солнца (как Анаксагор), посягает на сферу, принадлежащую Зевсу и Гелиосу. Следовательно, он "не чтит богов" так, как предписывает отеческий обычай. Его бог – это безличный закон природы (λόγος), а не персонажи мифов. Для афинского ремесленника или крестьянина, составлявшего суд гелиастов, разница была непонятна, и Сократ, с его вопросами и сомнениями, автоматически попадал в категорию "безбожников"».
Начиная свою защиту с опровержения «давней клеветы», Сократ (и Платон) демонстрирует глубокое понимание природы обвинения. Он борется не с юридической формулировкой, а с мифом о себе, созданным в массовом сознании. Этот миф объединил в себе страх перед натурфилософией, подрывавшей традиционную религию, и перед софистикой, угрожавшей общественной морали. Комментаторы единодушно отмечают, что, указывая на это, Сократ пытается сместить фокус с конкретного преступления на философский спор, показать судьям истинную суть своей деятельности и отделить себя от карикатурного образа «мудреца-безбожника», созданного Аристофаном и другими. Его последующее объяснение своей «человеческой мудрости» и миссии, полученной от дельфийского оракула, станет прямым ответом именно на это, первое и самое грозное обвинение.
2: Источник дурной славы – дельфийский оракул.Слава, дарованная оракулом.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 20d-21a, 23a-b):
«Ταύτην τὴν φήμην, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἔσχον οὐδὲν ἄλλο πράττων ἢ σοφίας τινός… μάρτυρα δὲ ὑμῖν παρέξομαι τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς… ἀνεῖλεν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι.
…ἐγὼ γὰρ δὴ τοῦτο ὑπ' ἐμαυτοῦ οὐδὲν οἶδα· τὸ δὲ δὴ οἶδα, τί καὶ λέγει ταῦτα ὁ θεός, καὶ ψεύδεται γὰρ οὐδέποτε.
…ἡ γὰρ ἐντεῦθεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἡ ἀπέχθειά μοι γέγονεν καὶ ἡ πολλὴ διαβολή… ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιῶν… ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστέταγμαι…»
Перевод и структурирование:
(20d-21a) «Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости… Свидетелем моей мудрости… я приведу вам бога, который в Дельфах… [Херефон] спросил [у Пифии], есть ли кто на свете мудрее меня. И Пифия ему ответила, что никого нет мудрее.
(21b) …Ибо я сам сознаю, что я ни мудр, ни мало, ни много… Что же хочет бог сказать [этим изречением] и что он подразумевает? Ибо он, конечно, не лжет; это не в его природе.
(23a-b) …Вот с этого времени, о мужи афиняне, и пошла на меня вражда и клевета… А я, занимаясь этим… лишь выполняю повеление бога…»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот эпизод – стержень всей защитительной речи. Сократ превращает обвинение в божественную миссию, радикально переворачивая ситуацию.
1. Стратегический и теологический смысл апелляции к Дельфам.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Апелляция к оракулу – это гениальный риторический и философский ход. Во-первых, это религиозный аргумент, который невозможно опровергнуть. Сократ предстает не безбожником, а, напротив, исполнителем воли самого Аполлона. Во-вторых, оракул придает его частному, индивидуальному поиску вселенский, сакральный смысл. Его "исследование" (ἐξέτασις) – это не праздное любопытство, а богоугодное дело. Тем самым он противопоставляет свое "благочестие" – формальному благочестию обвинителей, которые, преследуя его, идут против воли бога».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский, "Соперники христианства"):
«Сократ совершает революцию в понимании отношения человека к божеству. Традиционная религия предполагала пассивное принятие воли богов через гадания и жертвы. Сократ же получает от бога не готовый ответ, а загадку, которую он должен разгадать собственным умом и трудом. Его благочестие – это не ритуал, а активное интеллектуальное служение (λατρεία), состоящее в самопознании и испытании других. Это глубоко личностная религия, непонятная и потому пугающая для большинства».
2. Парадокс оракула и сущность «человеческой мудрости».
Сократ не объявляет себя мудрым. Напротив, он в недоумении и начинает расследование, которое приводит его к открытию.
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо, "Что такое античная философия?"):
«Мудрость, которую признает за собой Сократ, – это "человеческая мудрость" (ἀνθρωπίνη σοφία), которая состоит в осознании собственного неведения. Это не позитивное знание, а мета-знание – знание о границах своего знания. Оракул делает Сократа философом в точном смысле слова: не обладателем мудрости (софос), но любящим мудрость (фило-софос), вечно стремящимся к ней. Его проверка политиков, поэтов и ремесленников показывает, что все они, обладая некоторым знанием, мнят себя знающими и в других, более важных вещах (о добре, зле, справедливости), где они на самом деле невежественны».
Аргументированное разъяснение (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Открытие Сократа просто и гениально: "Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже этого". Его знание – это знание о незнании. Проверяя других, он не просто издевается над ними, а пытается пробудить в них это же знание – сознание своей ограниченности, которое есть начало подлинной мудрости. Но люди, вместо того чтобы задуматься, обижаются. Так философский поиск истины оборачивается социальным конфликтом».
3. Как божественная миссия порождает человеческую вражду.
Сократ прямо связывает свой философский метод, санкционированный богом, с причиной ненависти к себе.
Комментарий зарубежного исследователя(Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates: A Philosophical Interpretation"):
«Сократ проводит прямую причинно-следственную связь: "Бог повелел -> Я стал испытывать людей -> Они возненавидели меня -> Возникла клевета". Он представляет себя невинной жертвой, выполняющей долг. Его "преступление" – это необходимая и благородная услуга городу, подобная службе овода, который жалит ленивую лошадь (полис), чтобы она не заснула. Трагедия в том, что город предпочитает убить овода, чтобы спасти свой покой».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Здесь Платон через Сократа формулирует классический конфликт философа и толпы. Философ, следующий высшей правде (волей бога), неизбежно вступает в противоречие с правдой мнения (δόξα), на которой держится обывательская жизнь. Ненависть к Сократу – это ненависть "мнения", почувствовавшего свою несостоятельность перед лицом "знания". Таким образом, суд над Сократом – это не суд над преступником, а суд "мнения" над "знанием", который "знание" заранее обречено проиграть в силу своей малочисленности и непонимания».
Эпизод с дельфийским оракулом является философским и риторическим центром «Апологии». Сократ трансформирует обвинение в безбожие в рассказ о своей божественной миссии. Его «мудрость», ставшая причиной клеветы, оказывается не гордым всезнайством, а, наоборот, осознанием своего неведения – единственно доступной человеку формой мудрости. Комментаторы единодушно подчеркивают, что этот ход позволяет Сократу:
1. Обосновать свою деятельность как высшую форму благочестия.
2. Раскрыть этическую суть своей философии как поиска истины через осознание ignorance.
3. Объяснить социальный механизм конфликта: философ, пробуждающий людей от догматической спячки, неизбежно вызывает их гнев и становится козлом отпущения за их уязвленное самолюбие. Это не оправдание перед судом, а оправдание самого образа жизни философа перед лицом истории.
3: Проверка оракула – диалоги с «мудрецами».Испытание мудрецов: политики, поэты, ремесленники.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 21b-22e):
Ἐκ τούτου δὴ ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ὠπήειν… καὶ διὰ τὴν τέχνην ὀρθῶς ἄν μοι ἐδόκουν σοφώτεροι εἶναι… ἀλλ'… οἰόμενοι διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐργάζεσθαι καὶ ἐν τοῖς μέγιστος σοφοὶ ἔσεσθαι…»«Ἀπῄειν οὖν ἐπ' ἐκεῖνόν τε τὸν χρόνον… ὡς ἐμοὶ ἐδόκει σοφώτερος εἶναι… ἐνόμιζέ τι εἰδέναι… Μετὰ τοὺς πολιτικοὺς ὠπήειν τοὺς ποιητάς… ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιαζόντες… Перевод и структурирование:
(21b-d) «Отправился я тогда к одному из тех, кто слывет мудрым… Побеседовав с ним, я увидел, что этот человек… на самом деле не мудр… И тогда я понял, что на самом-то деле я мудрее его: ведь мы оба, пожалуй, ничего не знаем по-настоящему прекрасного и доброго, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я, если уж не знаю, то и не думаю, что знаю.
(22a-c) После государственных людей ходил я к поэтам… и сразу мне стало ясно, что не мудростью могут они творить то, что творят, а некоей природной способностью и в исступлении, подобно прорицателям… Ибо они говорили прекрасные творения, но ничего не понимали в том, что они говорили.
(22d-e) После этого обращался я к ремесленникам… И действительно, они знали то, чего я не знал, и в этом отношении были мудрее меня. Но… из-за того, что они хорошо владели своим искусством, каждый из них считал себя самым мудрым и в других, самых важных matters.»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот «отчет» о своей исследовательской деятельности Сократ представляет как эмпирическое доказательство правоты оракула. Его метод – это не просто беседа, а систематическое эпистемологическое расследование.
1. Методология «испытания»: Эленхос как инструмент божественной воли.
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократический диалог"):
«Сократ не просто "беседует" с мудрецами; он подвергает их перекрестному допросу (ἔλεγχος), цель которого – проверить последовательность и обоснованность их убеждений. Он исходит из гипотезы, что подлинное знание (ἐπιστήμη) должно быть когерентным и выдерживать логическую проверку. Обнаруживая противоречия в их словах, он демонстрирует, что их "мудрость" – это всего лишь набор необоснованных мнений (δόξαι). Таким образом, его метод – это не софистическое жонглирование словами, а серьезная попытка добраться до истины, обнажив ложное знание».
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега, "История античной философии"):
«Сократ действует как "акушер мысли" (майевтика), но в данном случае он помогает родиться не истине, а осознанию ее отсутствия. Его вопросы – это хирургический инструмент, вскрывающий внутреннюю пустоту мнимой компетентности. Это болезненная процедура, и реакция "пациентов" – гнев и обида – совершенно естественна. Сократ не просто устанавливает факт неведения, а показывает его причину: "знание" его собеседников не является рефлексивным, они не могут дать отчета (λόγον διδόναι) в том, что, как им кажется, они знают».
2. Три категории «мудрецов» и специфика их неведения.
Сократ выстраивает прогрессию, показывая, что проблема ложного знания универсальна.
· а) Политики (οἱ πολιτικοὶ): Власть без знания о Благе.
o Комментарий (Алексей Федорович Лосев): «Политики для Сократа – самые опасные из невежд. Они управляют полисом, не имея определения, что такое справедливость, благо или доблесть (ἀρετή). Их мудрость – это умение манипулировать толпой, а не познание сущности вещей. Сократ показывает, что политика, не основанная на этическом знании, есть не что иное, как техника обмана и произвола».
· б) Поэты (οἱ ποιηταί): Вдохновение без рефлексии.
o Комментарий (Михаил Леонович Гаспаров): «Разоблачение поэтов – ключевой момент. В древности поэт считался учителем народа. Сократ низводит его с этого пьедестала, утверждая, что творчество – это иррациональный акт (ἐνθουσιασμός), а не плод разума. Поэт – лишь пассивный проводник, он не понимает глубинного смысла своих же произведений. Следовательно, он не может быть авторитетом в вопросах истины и добродетели».
· в) Ремесленники (οἱ χειροτέχναι): Частное мастерство и вселенское невежество.
o Комментарий (Пьер Адо): «Ремесленники – самая трагическая фигура в этом ряду. Они – единственные, кто обладает подлинным знанием (τέχνη) в своей узкой области. Однако это частное знание порождает в них интеллектуальную гордыню – иллюзию, что их компетенция распространяется и на самые важные вопросы человеческой жизни (о смысле жизни, о смерти, о душе). Таким образом, Сократ демонстрирует, что специализированное знание не тождественно мудрости и даже может ей препятствовать».
3. Философский и социальный итог «расследования».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«Итогом этого грандиозного социального эксперимента становится формула сократовского неведения: "Я знаю, что ничего не знаю". Но это не скепсис, а фундамент для нового типа знания. Сократ открывает разрыв между "техническим" умением (делать, создавать) и "этическим" знанием (понимать, как жить). Афинское общество, все сферы которого – политика, культура, ремесло – были построены на первом, он ставит перед необходимостью второго. Его вина в том, что он обнажил эту экзистенциальную пустоту в сердцеве самого процветающего общества».
Комментарий зарубежного исследователя (Чарльз Х. Кан, "Платон и сократический диалог"):
«Этот пассаж объясняет, почему Сократ стал "самым мудрым". Не потому, что он обладал позитивным знанием, а потому, что он один осознал фундаментальный эпистемологический принцип: границы человеческого познания. Его миссия, таким образом, оказывается негативной терапией души, очищением ее от ложных мнений, чтобы подготовить почву для подлинного знания. Его "безбожие" и "развращение молодежи" – это на самом деле болезненный, но необходимый процесс духовного очищения города».
Эпизод с испытанием мудрецов служит Сократу эмпирическим обоснованием его миссии. Он демонстрирует суть своей философии: переход от мнения (δόξα) к знанию (ἐπιστήμη) лежит через осознание собственного неведения. Систематический характер его расследования (политики -> поэты -> ремесленники) показывает, что проблема не в отдельных личностях, а в фундаментальной эпистемологической ошибке всего общества, состоящей в смешении технической компетенции с этической мудростью. Именно эта всеобщая "терапия", назначенная ему богом, и сделала его непопулярным, породив ту самую "давнюю клевету", с опровержения которой он начал свою защиту.
4: Сущность человеческой мудрости.Истинная мудрость в осознании незнания.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 22e-23b):
…ὃς δ' ἂν ὡς σοφὸς ὢν μὴ εἰδῇ, τούτῳ παρακελεύεται διὰ τοῦ χρησμοῦ ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν.»«…ἐμαυτῷ συνῄδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ… τούτου δ' ἐμοὶ αἴτιον ἡ ἐμὴ σοφία… ...ἀλλὰ τῷ ὄντι γάρ, ὦ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι… ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός… Перевод и структурирование:
(22e-23a) «…Я ушел, сознавая самому себе, что я ничего не знаю… А причиной этому – моя человеческая мудрость… И, вероятно, в самом деле только бог мудр… и этим своим изречением он желает показать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит.
(23b) …А кто, подобно Сократу, знает, что его мудрость в действительности не имеет никакой цены, тот и есть самый мудрый [согласно богу].»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Этот вывод – не смирение, а радикальное эпистемологическое заявление, которое комментаторы рассматривают как поворотный пункт в истории западной мысли.
1. «Осознание незнания» (ἡ εἰδὼς οὐκ εἰδώς) как положительное знание.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократово "я знаю, что ничего не знаю" – это не агностицизм и не скептицизм в пирроновском смысле. Это – фундаментальное открытие. Это знание о себе, знание о природе человеческого познания. Это негативное знание обладает огромной позитивной силой: оно является необходимым условием для любого подлинного поиска истины. Оно очищает интеллектуальное поле от догм и предрассудков, открывая пространство для философии. Таким образом, "незнание" Сократа – это не пустота, а плодородная почва, в которой только и может произрасти истинное знание (ἐπιστήμη)».