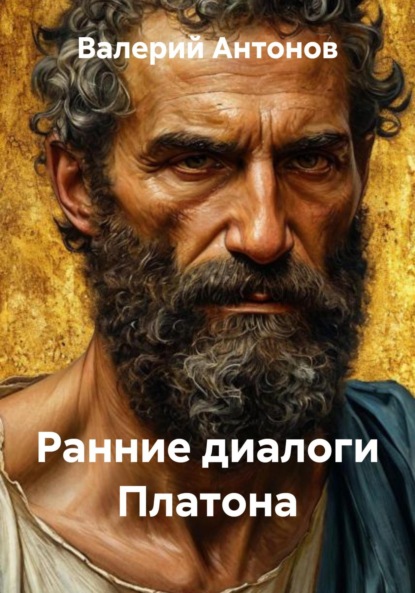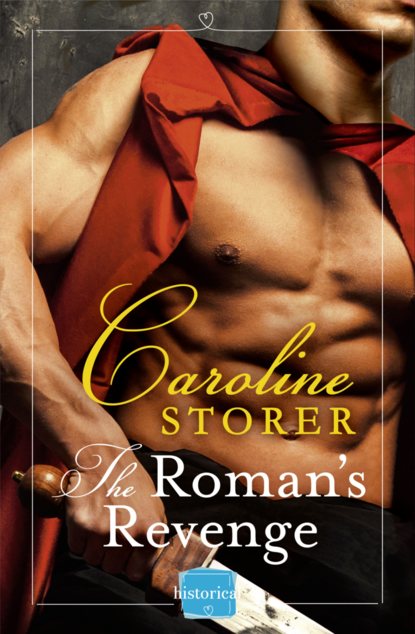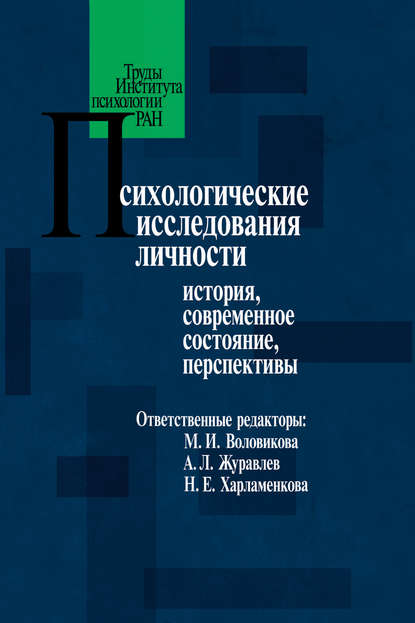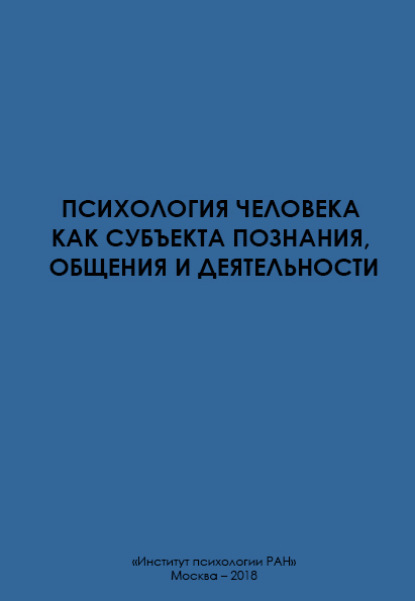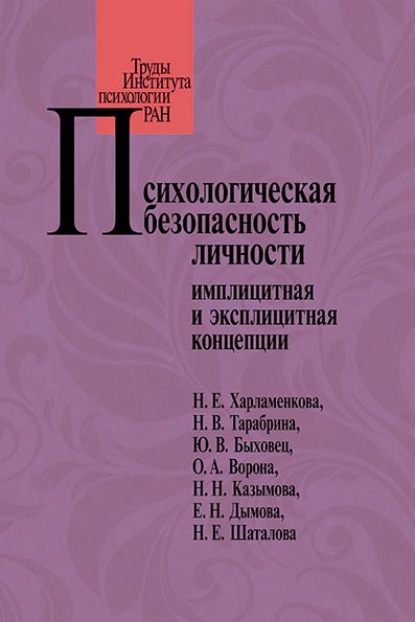- -
- 100%
- +
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит четкую границу между божественной и человеческой природой. Абсолютная мудрость (σοφία) принадлежит только богу. Человеку доступна лишь "мудрость", понимаемая как любовь к мудрости (φιλο-σοφία), то есть вечное стремление, поиск, движение к недостижимому идеалу. Сократ, осознавая свое неведение, становится первым подлинным "философом" в этом строгом смысле слова. Все же остальные, мнящие себя знающими, – это не философы, а лишь обладатели мнений».
2. Теологический смысл: человек как истолкователь божественного знака.
· Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Сократ совершает теологическую революцию. Он переносит центр тяжести с традиционного, ритуального благочестия на благочестие интеллектуальное и интерпретативное. Бог больше не просто посылает знамения, которые нужно принять. Он посылает загадку (оракул), которую человек должен разгадать своим собственным разумом. Истинное служение богу для Сократа – это не принесение жертв, а работа по пониманию его воли, которая выражается в философском исследовании себя и других. Таким образом, его "незнание" – это акт высшего смирения перед богом и одновременно акт высшей интеллектуальной свободы».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«В этом пассаже рождается новый тип религиозного сознания. Сократ стоит у истоков идеи, что бог есть Истина, а не просто сила. Служить такому богу – значит искать истину. Сократово "незнание" – это не отрицание познания, а установка на адекватность: лишь осознав дистанцию между человеческим разумом и божественной истиной, можно начать ее преодолевать. Это прямая противоположность "самоуверенному знанию" его обвинителей, которые, по его логике, в своей догматической слепоте гораздо ближе к настоящему безбожию».
3. Социально-этическое значение: "незнание" как основа добродетели.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ выводит знаменитую формулу: "Добродетель есть знание". Осознание собственного неведения – это первый и главный акт этого знания. Тот, кто не знает, что он не знает, не будет и стремиться к знанию. Следовательно, он не сможет стать добродетельным, ибо будет действовать исходя из ложных предпосылок. Таким образом, "человеческая мудрость" Сократа – это не просто интеллектуальная позиция, это фундамент этики. Она является необходимым условием для исправления души и жизни в согласии с добром».
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо):
«Парадокс Сократа в том, что, объявив человеческую мудрость "ничтожной", он придает человеческому разуму беспрецедентное значение. Именно потому, что мы лишены божественного всеведения, мы обречены на философскую жизнь – жизнь в поиске. Это "незнание" является двигателем всей философской практики. Оно заставляет человека постоянно заботиться о себе (ἐπιμελεῖσθαι ἑαυτοῦ), о своей душе, что, по Сократу, и есть высшая цель человеческого существования. Его миссия – будить ото сна тех, кто уверен в своем знании, и возвращать их к этой фундаментальной заботе».
Пункт о сущности человеческой мудрости является кульминацией положительной программы Сократа. Его "незнание" – это:
1. Эпистемологический принцип: Разграничение между догматическим мнением и критическим знанием, открывающее пространство для философии.
2. Теологический акт: Высшая форма благочестия, состоящая в смиренном истолковании божественной воли через работу собственного разума.
3. Этический императив: Необходимое условие для заботы о душе и стремления к добродетели.
Обвинители видят в Сократе того, кто все разрушает. Сам же он представляет себя как тот, кто закладывает единственно возможный фундамент для подлинного знания, добродетели и благочестия. В его устах утверждение о "ничтожности" человеческой мудрости звучит не как принижение человека, а как возвышение того, что ему подлинно доступно – бесконечного стремления к Истине.
5: Обвинения как следствие поиска истины.Причина ненависти и новые обвинители.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 22e-23e, 23c-d):
οἱ οὖν ἐξεταζόμενοι ὑπ' αὐτῶν ἐμοὶ ὀργίζονται… λέγοντες ὡς ἔστι τις Σωκράτης μάλα μιαρὸς ἀνὴρ οἵους τοὺς νέους διαφθείρει.»«Ἐκ δὲ τοῦ ἐμοῦ σκοπεῖν δὴ ταῦτα γέγονέν μοι ἀπράγμονι θruπὴ καὶ ἀπέχθεια… οἱ νέοι… ἀκούοντες μὲν τοὺς ἐξεταζομένους, μιμοῦνται δὴ ἐμὲ αὐτοὶ καὶ ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν… Перевод и структурирование:
(22e-23a) «Вот от этого самого исследования… и возненавидели меня многие… и притом жесточайшей ненавистью.
(23c) …Следующие за мною по собственному почину молодые люди… слыша, как их испытывают, и сами пытаются подражать мне и испытывать других.
(23d) …И вот те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня, и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей.»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ переходит от объяснения сути своей миссии к анализу ее социальных последствий. Он рисует механизм того, как философский поиск порождает клевету.
1. «Исследование» (σκέψις / ἐξέτασις) как причина «ненависти» (ἀπέχθεια).
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ вскрывает психологический механизм обиды. Его "исследование" – это не просто беседа, это публичная демонстрация некомпетентности и самодовольства уважаемых граждан. В культуре, основанной на чести и публичном признании (τιμή), быть выставленным на посмешище в словесном поединке – это тяжелейшее унижение. Естественной реакцией на такое унижение является не саморефлексия, а гнев, направленный вовне – на того, кто это унижение причинил. Таким образом, ненависть к Сократу – это защитная реакция "мнения" (δόξα), атакованного "знанием" (ἐπιστήμη)».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Сократ был "непрактичным человеком" (ἀπράγμων) в том смысле, что не участвовал в политической гонке за властью и богатством. Но его "непрактичная" деятельность – задавание вопросов – оказалась социально взрывоопасной. Он показывает, что самый опасный для общества человек – не корыстолюбец, а бескорыстный искатель истины, потому что он одним своим существованием ставит под вопрос устои, на которых держится жизнь корыстолюбцев».
2. Феномен «молодых подражателей»: искажение метода и рождение карикатуры.
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит, "Сократ на суде"):
«Это ключевой момент защиты. Сократ проводит четкую границу между собой и своими последователями. Он действует по велению бога и с определенной целью – познать смысл оракула. Его юные подражатели, лишенные этой божественной санкции и глубинного понимания цели, используют его метод как оружие для насмешки и самоутверждения. Они перенимают внешнюю, разрушительную сторону его метода (опровержение), но не внутреннюю, созидательную (заботу о душе). В результате общество видит лишь негативный эффект и приписывает его злому умыслу самого Сократа».
Аргументированное разъяснение (Алексей Федорович Лосев):
«Платон тонко характеризует социальный тип "псевдо-сократиков". Это – неизбежный спутник любого великого учителя. Ученики, не проникшие в суть учения, выхватывают его отдельные приемы и доводят их до карикатуры. Если Сократ был "оводом", жалившим из любви к лошади, то его подражатели – это слепни, которые кусаются просто потому, что такова их природа. Обвинение в "развращении молодежи" основано на действиях именно этих карикатурных последователей, которых сам Сократ не может и не хочет контролировать».
3. Механизм переноса вины: почему гнев обращен на Сократа.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс):
«Сократ описывает классический процесс создания "козла отпущения". Испытуемые испытывают стыд и когнитивный диссонанс, когда их мнимая мудрость разбивается. Признать свою ошибку – значит признать свое невежество, что болезненно для самолюбия. Гораздо проще найти внешнюю причину своего дискомфорта: не "я ошибался", а "меня сбили с толку коварными речами". Таким образом, Сократ становится фокусом, в котором сходятся все обиды и раздражения от столкновения с собственной интеллектуальной ограниченностью».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский):
«Обвинительная формула "Сократ развращает молодежь" рождается из естественного непонимания сути философии. Для обывателя, воспитание – это передача готового набора знаний и норм. Метод Сократа – это не передача знаний, а пробуждение мысли, которое выглядит как разрушение старых норм. То, что для философа является "очищением" от ложных мнений, для отцов города выглядит как "развращение", то есть лишение молодежи тех нравственных ориентиров, которые они сами считают незыблемыми. Сократ сеет сомнение, а в глазах общества, сомнение в устоях тождественно их отрицанию».
В этом пункте Сократ завершает создание причинно-следственной цепи, объясняющей его присутствие в суде:
1. Божественная воля (оракул) порождает философскую миссию (исследование).
2. Философская миссия, вскрывающая невежество, порождает общественную ненависть.
3. Ненависть усугубляется действиями молодых подражателей, которые, не понимая сути метода, используют его как орудие насмешки.
4. Жертвы этого процесса, не желая винить себя, переносят вину на первоисточник, создавая образ "безбожника и развратителя" – Сократа.
Таким образом, Сократ представляет себя не как преступника, а как неизбежную жертву собственного служения истине и богу. Обвинения – это не причина, а следствие, симптом той болезни самодовольного невежества, которую он пытался исцелить.
6: Диалог с Мелетом о «развращении молодежи».Опровержение обвинения в развращении молодежи.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 24c-25c):
…ὡς ἔοικεν, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες Ἀθηναῖοι βελτίους ποιοῦσιν αὐτοὺς καὶ καλοὺς κἀγαθούς, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω.»«Εἰπέ μοι, ὦ Μέλητε… τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ;… «Οὐκοῦν οἱ ἵπποι… εἰσὶν οἱ βελτίους ποιοῦντες, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων; ἢ πάντες μὲν ἱππικοὶ δύνανται βελτίους ποιεῖν ἵππους, εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων;»
Перевод и структурирование:
– …По-видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я один порчу.(24c-25a) «– Ну вот, Мелет, скажи-ка ты мне… кто именно делает их [молодых людей] лучшими?… (25b) – …Не правда ли, что в отношении лошадей бывают такие, которые делают их лучшими, и лишь один какой-нибудь, кто портит? Или совсем наоборот: способность делать лошадей лучшими принадлежит немногим – именно тренерам лошадей, а большинство, если имеют с ними дело и пользуются ими, портят их?»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
В этом эпизоде Сократ переходит от общей защиты к прямому диалектическому поединку с Мелетом, разоблачая логическую несостоятельность обвинения.
1. Стратегический прием: приведение обвинения к абсурду.
· Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ использует свой классический метод эленхоса (опровержения) прямо в суде. Он вынуждает Мелета принять предпосылку, что "делать молодежь лучше" – это особое искусство (τέχνη), подобное искусству коневодства. Далее он демонстрирует, что в любой специализированной области улучшение – это удел немногих экспертов, в то время как большинство, не обладая этим искусством, непреднамеренно портит. Таким образом, тезис Мелета, что "все улучшают, а один Сократ портит", оказывается абсурдным с логической и практической точки зрения. Это не опровержение фактов, а демонстрация нелепости самой логической структуры обвинения».
Комментарий отечественного исследователя (Михаил Леонович Гаспаров, "Занимательная Греция"):
«Сократ наносит удар в самую слабую точку обвинения – его демagogic character. Обвинение было рассчитано на предрассудок толпы: "все хорошие граждане воспитывают молодежь по заветам отцов, а Сократ один учит их сомневаться". Сократ показывает, что с точки зрения логики это бессмыслица. Воспитание – это не стихийный процесс, а сложное искусство. Если следовать логике Мелетa, то лучшим воспитателем должен быть сапожник или кожевник, ведь "все" афиняне занимаются ремеслом, а не философией. Сократ выставляет обвинение как примитивное и невежественное».
2. Аналогия с коневодством: знание vs. невежество.
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Аналогия с лошадьми (ἵπποι) – не просто удачный пример. Она несет глубокую смысловую нагрузку. Лошадь в античной культуре – символ благородства, но также и дикой силы, которую необходимо обуздать и направить искусным тренером (ἱππικός). Так и молодежь, полная энергии и страстей, нуждается не в том, чтобы ее оставили в покое ("все" афиняне), а в опытном и мудром наставнике. Сократ намекает, что его деятельность – это и есть попытка такого духовного "тренерства", в то время как "все" остальные, поощряя нерефлексивное принятие мнений, лишь "портят" молодые души, оставляя их необученными и недисциплинированными».
Аргументированное разъяснение (Алексей Федорович Лосев):
«Платон устами Сократа проводит мысль, что добро (благо) не может быть результатом бессознательной деятельности толпы. Оно является продуктом знания. Если бы "все" афиняне действительно делали молодежь лучше, то это означало бы, что все поголовно обладают знанием о добродетели. Но это очевидным образом не так. Следовательно, Мелет либо лжет, либо не понимает, о чем говорит. Аналогия с лошадьми делает этот логический провал наглядным и унизительным для обвинителя».
3. Доказательство отсутствия злого умысла.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ подводит Мелета к ключевому вопросу: "Неужели я умышленно развращаю молодежь?" Это ловушка. Если Мелет ответит "да", то это будет нелепо: зачем разумному человеку умышленно вредить тем, с кем он общается, навлекая на себя их месть и ненависть? Если "нет", то Сократ невиновен, так как за неумышленный проступок положено не наказание, а увещевание. Сократ показывает, что само обвинение иррационально: оно приписывает ему поведение, противоречащее здравому смыслу и природе человека, стремящегося к благу».
Комментарий зарубежного исследователя (Томас Брикхаус, Николас Смит):
«В этом диалектическом пассаже Сократ не столько доказывает, что он не развращал молодежь, сколько демонстрирует, что обвинение против него логически невозможно. Мелет не может последовательно объяснить ни механизм "развращения", ни его мотив. Обвинение рассыпается не под напором контраргументов, а под тяжестью собственной внутренней противоречивости. Сократ представляет себя как человека, чья деятельность, даже если она и вызывает беспокойство, не подпадает под категорию уголовного преступления, так как лишена главного его признака – злого умысла (κακία)».
Диалог с Мелетом служит Сократу для того, чтобы:
1. Продемонстрировать невежество обвинителя: Показать, что Мелет не задумывался о логических основаниях своего доноса.
2. Разрушить популистскую риторику обвинения: Опровергнуть тезис о том, что добродетель является продуктом коллективного, нерефлексивного действия "всех".
3. Обосновать экспертный статус философа: Через аналогию с тренером лошадей намекнуть, что воспитание – это искусство (τέχνη), требующее знания, которым он, Сократ, как раз и пытается овладеть.
4. Снять с себя признак злого умысла: Доказать, что обвинение в умышленном вреде абсурдно и противоречит человеческой природе.
Этот эпизод – не просто защита, а наглядный урок сократовского метода для судей: он показывает, как с помощью логики можно разоблачить пустоту и предрассудок, стоящие за формальным юридическим актом.
7: Диалог с Мелетом о «безбожии».Опровержение обвинения в безбожии.
Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 26b-27e):
…ἆρ' οὖν τά γε δαιμόνια οὐ θεῶν ἢ θεῶν παῖδας νομίζομεν; φῂς ἢ οὔ;»«Ἀδικεῖ Σωκράτης… οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινὰ εἰσηγούμενος… ...εἰ γὰρ δὴ καὶ δαιμόνια νομίζω, ὥς φησι Μέλητος ἐπισκώπτων, δαιμόνιά γέ τινὰ ἀνάγκη με νομίζειν εἶναι. Перевод и структурирование:
(26b-c) «[Мелет говорит, что] Сократ преступает закон тем, что… богов, которых признает город, не признает, а признает другие, новые божественные знамения (δαιμόνια).
(27b-d) – …Ведь если я признаю божественные знамения, как утверждает Мелет, насмехаясь, то мне уже никак невозможно не признавать и гениев (δαίμονες).
(27d-e) – …А не считаем ли мы гениев или богами, или детьми богов? Согласен ты с этим или нет?»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ использует формальную логику, чтобы показать, что обвинение Мелета внутренне противоречиво и, следовательно, абсурдно.
1. Логический парадокс: «новые божественные знамения» (δαιμόνια καινά).
Комментарий зарубежного исследователя (Грегори Властос, "Сократ: Ироник и моральный философ"):
«Сократ выявляет фатальную двусмысленность в формулировке обвинения. Термин "δαιμόνια" может означать "сверхъестественные существа" (демонов, гениев), отличных от богов (θεοί), но он также неразрывно связан с божественной сферой. Сократ заставляет Мелета признать, что "δαιμόνια" по определению являются либо богами, либо порождениями богов. Следовательно, вера в "δαιμόνια" логически влечет за собой веру в богов. Обвинение, утверждающее, что Сократ верит в "δαιμόνια", но не верит в богов, столь же противоречиво, как утверждение "Сократ верит в детей, но не верит в родителей". Это не доказательство того, что Сократ благочестив, но это неопровержимое доказательство того, что его обвинитель не мыслит логически».
Комментарий отечественного исследователя (Алексей Федорович Лосев, "История античной эстетики"):
«Платон устами Сократа проводит тончайшее богословское различение. Традиционная религия полиса была мифологической и ритуалистической. "Божественное знамение" (δαιμόνιον) Сократа – это уже философско-религиозное понятие, внутренний голос, запрещающий ему делать дурное. Обвинители, будучи неспособны понять эту тонкость, подводят его "знак" под традиционную категорию "новых божеств", что само по себе было уголовным преступлением (как в случае с Анаксагором). Сократ же, не вдаваясь в метафизику, берет это слово в его общепринятом, народном значении и показывает, что даже в этом смысле обвинение несостоятельно».
2. Религиозный контекст: «гении» (δαίμονες) как посредники.
Комментарий зарубежного исследователя (Роберт Паркер, "Афинская религия: История"):
«В обыденном афинском веровании δαίμονες занимали промежуточное положение между богами и людьми. Это были божественные силы, духи-покровители или даже обожествленные герои. Идея о том, что они являются "детьми богов", была широко распространена. Сократ апеллирует к этому общепринятому представлению. Его аргумент безотказен для суда присяжных: если вы верите в то, во что верит любой афинянин, касательно природы δαίμονες, то вы должны признать, что мое признание "δαιμόνια" автоматически означает мою веру в богов. Мелет, отрицая это, ставит себя в положение человека, оспаривающего основы народной религии».
Аргументированное разъяснение (Сергей Сергеевич Аверинцев):
«Сократ действует здесь как блестящий ритор. Он принимает язык мифа, на котором говорит обвинение, и на этом же языке его разбивает. Он не говорит: "Мое δαιμόνιοн – это не новый бог, а внутренний моральный принцип". Вместо этого он говорит: "Давайте поговорим о ваших же δαίμονες". И оказывается, что на языке мифа вера в "детей богов" невозможна без веры в самих богов. Таким образом, Сократ демонстрирует, что обвинители настолько ослеплены ненавистью, что не способны к последовательному мышлению даже в рамках собственной, традиционной религиозной системы».
3. Юридическое значение опровержения: разрушение состава преступления.
Комментарий отечественного исследователя (Василий Петрович Лега):
«Сократ показывает, что в обвинении отсутствует главный элемент – объективная сторона преступления. Нельзя одновременно быть обвиненным в "безбожии" (отрицании традиционных богов) и во "введении новых божеств". Это взаимоисключающие пункты. Либо он отрицает всех богов (и тогда не может вводить новых), либо вводит новых (и, следовательно, богов признает). Мелет, пытаясь усилить обвинение, совместил две разные статьи, чем и воспользовался Сократ для демонстрации полной юридической несостоятельности доноса».
Комментарий зарубежного исследователя (Джеймс А. Кольяс, "The Trial of Socrates"):
«Этот логический триумф Сократа имеет трагическую подоплеку. Он доказывает, что обвинение ложно, но не доказывает, что он невиновен в глазах судей. Суд – это не академический диспут, а политический театр. Сократ выигрывает спор, но проигрывает в публичном восприятии. Его виртуозная логика могла быть воспринята как издевательство над верованиями простых людей, как софистическая уловка. Он показывает, что Мелет – глупец, но тем самым лишь усугубляет обиду и раздражение тех, кто идентифицирует себя с этим глупцом и традицией, которую тот, по их мнению, представляет».
Опровержение обвинения в безбожии является образцом сократовской логики:
1. Принятие предпосылки: Сократ берет формулировку обвинения как данность.
2. Выявление скрытого смысла: Он анализирует ключевой термин "δαιμόνια" в его общеупотребительном значении.
3. Демонстрация противоречия: Он показывает, что вера в "δαιμόνια" логически влечет за собой веру в богов, делая обвинение внутренне противоречивым и абсурдным.
4. Юридический вывод: Обвинение не соответствует формальному составу преступления, так как объединяет взаимоисключающие тезисы.
Однако, как отмечают комментаторы, эта безупречная логическая победа в зале суда оборачивается поражением в борьбе за общественное мнение, где страхи и предрассудки сильнее любого, даже самого безупречного, аргумента.
8-9: Миссия Сократа и ее цена. Служение богу и долг философа. Почему Сократ не участвовал в политике.Ключевой текст из оригинала (Платон, «Апология Сократа», 23b-c, 31b-32e):
…ταῦτα διαπραττόμενος ἐγὼ σχολὴν ἄγειν οὐδεμίαν δυνατὸς γέγονα οὔτε τῶν τῆς πόλεως πράξεων ἄξιον λόγου οὐδὲν οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ' ἐν ἀπορίᾳ εἰμὶ μυρίᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν.»«…ταύτην τὴν ἐμὴν εἰωθυῖαν ἐργασίαν ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστετάχθαι καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ παντὶ τρόπῳ ᾧπέρ τίς ποτε καὶ ἄλλη θεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προστάξαι… «Εἰ γὰρ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπολώλειν… οὐδὲν γὰρ ἄξιον ὑμῖν οὔτε ἐμοὶ οὔτε τῇ πόλει ἔσεσθαι πράξαντα ἄνδρα δίκαιον πρὸς ὑμᾶς πολιτευόμενον…»
Перевод и структурирование:
(23b-c) «…Эта моя привычная деятельность [исследование себя и других] есть повеление бога, данное и через оракулы, и через сны, и всяким другим способом, каким вообще когда-либо давалось человеку какое-либо божественное повеление…
(23b, 31b) …Занимаясь этим, я не имел возможности заняться чем-либо достойным упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но пребываю в крайней бедности из-за служения богу.
(31d-32a) …Ведь если бы я давно попытался заниматься политическими делами, то давно бы уже погиб… И не случилось бы ничего хорошего ни для вас, ни для меня, если бы я, будучи справедливым человеком, пытался вести политику среди вас…»
Разъяснения комментаторов и исследователей.
Здесь Сократ переходит от защиты к утверждению своей жизненной позиции. Он объясняет социальные последствия своего философского призвания – бедность и неучастие в политике – не как недостатки, а как доказательство верности своему долгу.
1. «Служение богу» (λατρεία τῷ θεῷ) как высший долг.
Комментарий зарубежного исследователя (Пьер Адо, "Что такое антическая философия?"):
«Сократ описывает свою жизнь как форму религиозного служения. Его философская деятельность – это "работа" (ἐργασία), "служба" (λατρεία), прямое "повеление" (προστάττω) божества. Это превращает философию из частного досуга (σχολή) в публичную миссию, сравнимую по своей обязывающей силе с должностью полководца или жреца. Его бедность – не случайность, а следствие этого выбора: он не может брать плату, ибо служит не людям, а богу, и все его время поглощено этим служением. Таким образом, он представляет себя не как бездельника, а как самого занятого и полезного слугу города, хотя и в непривычной для него роли».
Комментарий отечественного исследователя (Фаддей Францевич Зелинский, "Соперники христианства"):
«Сократ создает модель "аскезы философа". Он сознательно отказывается от материальных благ и общественного положения ради высшей цели – "попечения о душе". Его бедность – это не несчастье, а доказательство свободы и независимости. Он не зависит от государства, которое могло бы его наказать лишением должности, и от толпы, которую мог бы разгневать, стремясь к ее расположению. Эта автономия является необходимым условием для выполнения его миссии – говорить городу неприятную правду».