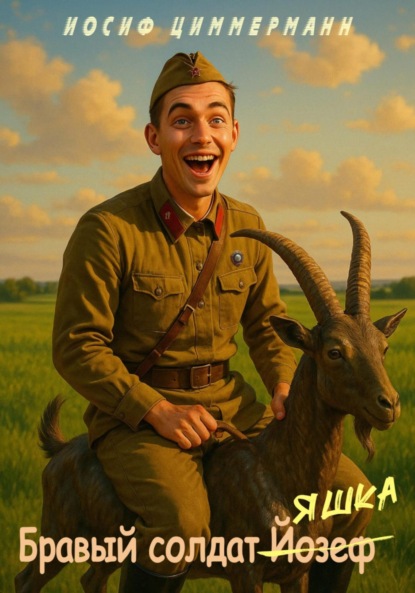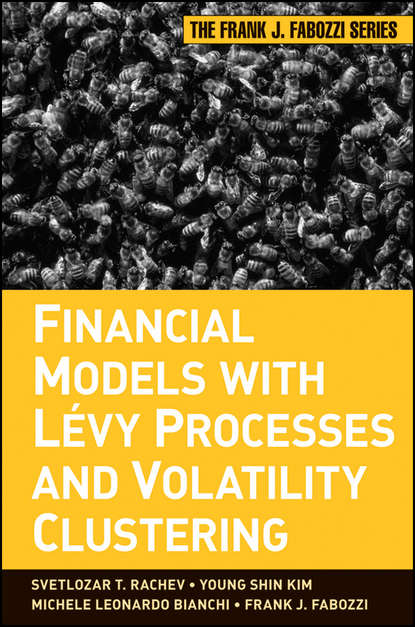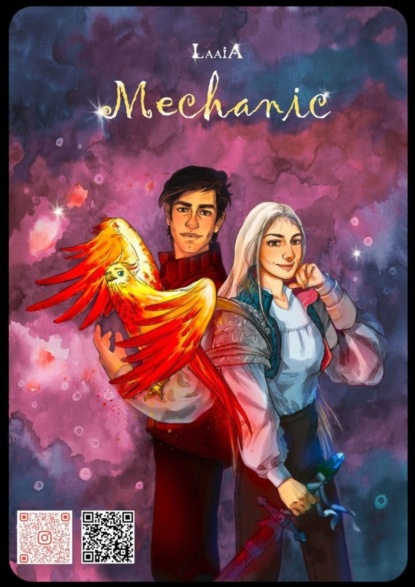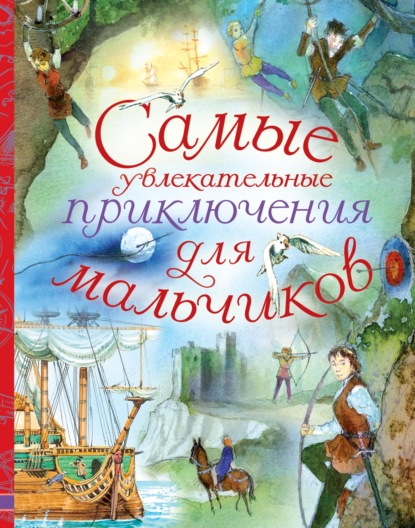- -
- 100%
- +

Пролог
Он не жег храмов ради славы. Не стремился в хрестоматии и заголовки газет. Он просто шел своей дорогой – тихий, скромный человек в поношенной одежде, который и сам не подозревал, какое значение обретет в истории новой, великой эпохи. Если бы вы спросили его имя он бы ответил просто: Йозеф – тот самый бравый солдат, отважный герой, чье имя и слава никогда не померкнут…
(по мотивам Ярослава Гашека, «Похождения бравого солдата Швейка»)

Началось с аварии
– В разверзшуюся бездну глубиной более тридцати метров, давя и разбивая друг друга, провалились семь вагонов. Люди – спящие, ничего не подозревающие – летели вниз вместе с дверями, обшивкой, телами… Куски железа, разбитые головы, обломки… Кровь ручьями текла из смятых конструкций. – интеллигентного вида старичок в очках обвел взглядом попутчиков и продолжил: – Это произошло неподалеку отсюда. Ливни тогда шли несколько дней подряд. Овраг подмыл железнодорожную насыпь. Ночью еще успел пройти поезд Москва – Курск. Машинист уже что-то заподозрил – по прибытии в Чернь сообщил, что с насыпью неладно. Но телеграф молчал – гроза отключила связь. Предупредить следующий почтовый поезд не успели… Жуткое было зрелище. Еще четыре вагона удалось остановить. Всего в шести метрах от пропасти. Кондуктор вовремя дернул стоп-кран. Иначе – погибших было бы вдвое больше. А и так – сорок два человека насмерть, тридцать пять ранены. Кто без руки, кто без глаз… Та авария изменила всю мою жизнь.
– Мне тогда оторвало ногу, – тихо добавил он. Старик загнул палец, как крючок, и постучал костяшкой по колену. Глухо – как по дереву.
Этот короткий звук, будто пустой удар по ящику, разлетелся, кажется, по всему плацкартному вагону. Большинство призывников – под ноль остриженные, в похожих телогрейках, с вещмешками – сбились в плотную кучку у старика. Кто лежал – сел, кто сидел – вытянул шею и замер, вслушиваясь в каждое слово. Другая часть – человек десять, не меньше – выстроилась вдоль прохода, плечом к плечу, тесно и молча, словно боялись спугнуть своим дыханием рассказчика.
Старик больше не говорил. Он смотрел в окно. Их состав стоял уже больше двух часов – посреди ничего, в темном, промозглом осеннем лесу. За окном – лишь густая чернота да редкие силуэты облетевших деревьев. Пахло сырыми шпалами и железом. Иосиф, лежавший на верхней полке, закрыл окно вагона.
– В Орловской области, на переезде, грузовой состав врезался в автобус. Стоим. Ждем, – сообщил проводник, протискиваясь между стоящими и перешагивая лежащих на полу в проходе призывников.
– А нам-то что, – весело отозвался младший сержант, сопровождавший новобранцев до места назначения. – Как говорится: солдат спит – служба идет.
Круглолицый служивый с алым румянцем на щеках и робким пушком юности под носом громко рассмеялся. Но никто его не поддержал. То ли армейская шутка оказалась парням еще не понятной, то ли рассказ старика не позволял им расслабиться. Они застыли с полуоткрытыми ртами, а глаза – полные внимания и сосредоточенного интереса – будто вцепились в лицо рассказчика.
Большинство в переполненном плацкартном вагоне оказалось родом из Таджикистана. Тихая, замкнутая толпа, говорящая на своем языке, держалась особняком. Когда подали состав, они первыми ринулись к дверям, пропуская вперед своих и отталкивая чужих. Иосиф тогда, грешным делом, подумал: не достанется ему лежанки. Он зря переживал. Жители Средней Азии облюбовали проход: уселись там гуськом, скрестив под собой ноги, будто на земляном полу. Даже спали потом в этой неизменной позе. Напротив Иосифа полка пустовала всю дорогу. Никто не подумал ее занять.
Парни-таджики, как потом выяснилось, были выходцами из горных кишлаков. Внимать рассказам старших – у них так заведено с детства. Скорее всего, они толком не знали русского языка и почти ничего из сказанного не понимали. Но уважение к возрасту у них, как говорится, в крови. Уловив жаждущие взгляды, старик счел нужным продолжить рассказ:
– До войны у нас появилось настоящее чудо железнодорожной техники – аэровагон. Придумал его тамбовский инженер-самоучка по фамилии Абаковский. Он взял обычную дрезину и приладил к ней авиационный двигатель с трехметровым пропеллером. Пропеллер крутится – дрезина мчит вперед. Скорость впечатляла: до 140 километров в час! За несколько месяцев построили опытный образец, который без единой аварии отбегал по железным дорогам три тысячи верст.
– Но, кажется, маршрут между Москвой и Орлом проклят. Кто-то его сглазил, – вздохнул мужчина и, не стесняясь, перекрестился. – Именно по этому маршруту решили провести демонстрационную поездку в новеньком аэровагоне. На нем должны были доставить в Тулу участников работавшего в Москве Конгресса Коммунистического интернационала и Конгресса Красного интернационала профсоюзов. Идея казалась блестящей: показать зарубежным товарищам достижения советской инженерной мысли.

В кабину тогда сел сам изобретатель – Валериан Абаковский, а вместе с ним – «товарищ Артем», как прозвали Федора Сергеева, секретаря Московского комитета партии и председателя крупнейшего в стране союза горнорабочих.
Но возле Серпухова аэровагон на полном ходу сошел с рельсов и разбился в щепки. Шестеро пассажиров погибли на месте, включая самого Абаковского. Еще шестеро – тяжело ранены. Артема нашли на полотне с разбитой головой. Среди погибших были болгарский революционер Иван Константинов, один из основателей компартии Великобритании Уильям Хьюлетт, немецкие делегаты О. Штрупат и О. Гельбрих, американец Джон Фриман. Всех их похоронили в Кремлевской стене, как героев.
«Погибло несколько вождей пролетариата, но не погибло дело революции. Новые жертвы обагрили путь революции. Тем сильнее наша воля продолжать борьбу, – писала тогда тульская областная газета Коммунар. – Враги наши живут среди нас. Они строят козни. Не поддадимся террору. Будем бдительны». Про неудовлетворительное состояние железнодорожных путей тогда боялись даже заикнуться.
Неожиданно многие из таджиков заулыбались. Они кивали, словно что-то в этом месте рассказа было им особенно близко.
– Тошно, как нас, – выговорил один из них, ломая русские слова. – Сдават сто кило хлопок – денгы дат за пятдесят. В Москва напишет: сто пятдесят. А ты – ни гу-гу!
Веселый гомон одобрения тотчас прокатился по вагону…
Призывник Цимерман в эту минуту мысленно возмущался другим, хоть и из той же серии. В ДОСААФ его обучали на радиотехника – обслуживать взлетно-посадочные процессы аэродромов. Помимо этого их на занятиях готовили к работе на ключе и приему сигналов. Это было непросто. Без музыкального слуха тут точно не обойтись. Азбука Морзе – точки, тире, точки… Заучивали ее по напевам, где слова имели строгое количество слогов. Например, фраза из пяти слогов: «Да-ай, да-ай, за кур ить» обозначала два тире и три точки (− − • • •) и соответствовала цифре 7. Другой напев – «Ты ку да-а по-о шла-а» – давал две точки и три тире (• • − − −), то есть цифру 2. Фраза «Па-а па-а ма-а му-у тык!» звучала как четыре тире и точка (− − − − •) и означала цифру 9. А короткий напев «Са-мо-лет» передавал три точки – букву «С».
Иосиф быстро освоил это. Приноровился работать одной рукой на ключе, тут же принимать морзянку и другой рукой заносить в тетрадь цепочки точек и тире. Расшифровка их в буквы и слова тоже уже не представляла труда. А на призывном пункте, прямо перед отправкой, ему сообщили: будешь служить в других войсках.
– Пушкарь, – сплюнул он с досады, разглядывая на черных петлицах младшего сержанта, в распоряжение которого он попал на Тульском вокзале, эмблему перекрещенных пушек. – На хрена тогда я азбуку Морзе как чечетку вызубрил?! Я ж после первого пушечного выстрела вообще оглохну.
– Артиллерия, – невозмутимо поправил командир. И почему-то подмигнул.
Призывник был сильно разочарован. На практике курсантов школы ДОСААФ вывозили на дальние точки – к приводным радиомаякам. Там, в небольших домиках с антеннами, располагались станции связи и радиотехнические средства, обеспечивающие самолетам ориентировку при заходе на посадку и навигацию. Обслуживались эти пункты, как правило, тремя людьми: командиром (лейтенантом или прапорщиком) и двумя солдатами срочной службы. Иосифу понравился их быт. Полное уединение, тишина, никакого строевого крика. Вместо ремня и пилотки – спортивный костюм. На ногах – домашние тапочки, никаких сапог и портянок. Готовили там сами – на пристроенной летней кухне. Под ногами все время шныряла кошка или приблудный пес.
Один из солдат тогда мимолетом рассказал, что к нему как-то приезжала мать. У нее был отпуск по работе, и она почти месяц жила рядом с сыном – готовила, стирала, помогала всем, кто тогда служил на этой точке.
Второй служивый с явной гордостью поделился, что может свободно звонить из армии родственникам – без заказов, без междугородних задержек, и главное – бесплатно. У него даже завелись знакомые где-то «чуть ли не с Северного полюса», с которыми он время от времени общался по телеграфу.
Лежа на верхней полке плацкартного вагона, увозящего его прочь от заветной мечты, Иосиф пальцем выбивал азбуку Морзе: «·–· ·-· ·· ·– · -» (ди́т даа́а даа́а ди́т; ди́т даа́а ди́т; ди́т ди́т; ди́т даа́а даа́а; ди́т; даа́а). Что означало простое: «привет».
Внизу, в купе, дедушка в очках в который раз жаловался «добрым» попутчикам – так он успел окрестить лысых новобранцев – на бессовестную кассиршу на вокзале, которая продала ему, инвалиду, билет на верхнюю полку. Никто из пассажиров, по его словам, не захотел уступить ему нижнюю. И только в их вагоне, с подчеркнутым удовлетворением говорил он, старца наконец-то уважили.
Интонация ворчливого, но харизматичного дедушки невольно напомнила уроженцу далекого казахстанского поселка Аккемир голос его приемной бабушки Амалии.
– А вот еще одна история, – словно шелест завядших листьев на ветру раздавалось снизу, – На оборотной станции Скуратово, что в Тульской области, как обычно, пришел на отстой пассажирский поезд № 94 – «Баку – Москва». Машинист и его помощник сели играть в карты – по тем временам это считалось вполне обычной практикой. На следующий день, приняв пассажирский поезд № 94 «Баку – Москва», измотанная бригада уснула прямо в пути. На подъеме к станции Серпухов состав начал постепенно терять скорость и в итоге полностью остановился. Простояв около тридцати секунд, поезд начал медленно скатываться назад. В это время всего в четырех минутах позади по тому же маршруту следовал другой пассажирский поезд – «Нальчик – Москва»…
Дрема накрыла Иосифа медленно и мягко. Теплая и безмятежная – словно шерстяной плед. Как в детстве, когда бабушкины сказки убаюкивали его перед сном…
Прошлое
Когда его по-домашнему и ласково еще звали Ёся, никто не знал, кем он станет. Он запомнился поселку щуплым мальчишкой в потертой фуфайке не по росту. В кирзовых сапожках на босу ногу. С вечными ссадинами на коленях, выглядывавших из прорех на старых штанишках. И со смущенной улыбкой, будто извинялся перед миром за то, что вообще родился. Сирота. Круглый сирота.
Село с красивым названием Аккемир, раскинувшееся на бескрайних просторах Западного Казахстана, как почка, приросло к стальной ветке – железной дороге Оренбург–Ташкент. Название звучало светло, почти поэтично. Аккемир в переводе с тюркского означает «белый пояс» – из-за часто встречающихся здесь светлых известковых наплывов, будто выбеленных солнцем склонов и балок.
А вот судьбы, что складывались в этом краю, под здешним бирюзовым небом, были далеки от чистоты и легкости. Местные сироты уже никого не удивляли. Их было слишком много, чтобы помнить историю каждого. Вместе с Цимерманом в одном классе учились дети из таких же обездоленных семей – Кудайбергеновы и Кашкаровы.
Но у Ёси боль сиротства была двойной. Ее усиливало то, что он происходил из семьи русских немцев. В годы сталинских репрессий их вырывали с родных мест по всему Советскому Союзу – в основном из Поволжья – и ссылали в казахские степи. На всех без разбора навешивали один и тот же ярлык: «фашист».

У него была крестная мать. Женщина с благим лицом, когда-то обещавшая перед Богом, что, если вдруг случится беда, возьмет на себя заботу о крестнике. Того требовала традиция. Так было принято у людей верующих: крестить – значит не только помолиться над младенцем, но и быть готовой стать ему матерью в случае сиротства.
Но когда беда действительно пришла, крестная отступила. Видимо, его фамилия, звучавшая «не по-нашему», и метка в графе «национальность» напугали ее больше, чем собственное обещание. Святое обязательство осталось словами.
А вот другая женщина не отвернулась – преклонного возраста, говорившая тихо и с акцентом. Седая Амалия – из высланных с Поволжья немцев. Она сама в детстве стала сиротой, по жизни сполна познала цену утрат – и потому не побоялась взять на себя нелегкую ношу. Приняла мальчика под свое крыло. Оформила над ним опекунство. Баб Маля не называла его сыном и не считала внуком. Взяла – не из жалости, не по долгу крови, а как крест, который выпадает человеку судьбой, и который верующий должен нести – без ропота, до конца.
Он рос среди ветров степи, под шепот старушечьих преданий – о далекой, почти сказочной Германии, о широкой и щедрой Волге, на берегах которой когда-то нашли свое счастье тысячи немцев-переселенцев. А еще – о кровавых войнах и беспощадном изгнании. О трудармии, где гасли жизни. О бесправной жизни под надзором комендатуры, где любое слово могло стать приговором.
В школьных коридорах и простых, пахнущих мелом классах он впервые осознал – и, главное, поверил – что может вырасти во что-то большее, чем просто сирота из Аккемира. Что и у него есть шанс стать кем-то.
Эту веру в него неустанно вселяли учителя: Зоя Васильевна Ефремова, Рашида Шуреновна Кавкаева, Ида Васильевна Бухамер, Орынбасар Садвокасович Садвокасов.
Даже учительница музыки, кореянка Римма Корниловна Пак, по-своему подталкивала его вперед – оставалась с ним после уроков на дополнительные занятия по нотной грамоте, а позже – и на репетициях бальных танцев.
Но главным двигателем в его жизни все же оставалась она – баба Маля, приютившая сироту. Пусть на первый взгляд и не слишком понятливая, суровая, сдержанная.
Когда он, получив аттестат зрелости, не поступил в Тульское артиллерийское училище и решил остаться в Аккемире – работать строителем в совхозе, – Амалия этого не одобрила. Она не умела кричать. Но ее молчание было страшнее любого окрика. Тихо, без слов, женщина выжила приемного семнадцатилетнего подопечного из своего дома. Лишь спустя годы он поймет: она не прогнала – она вытолкнула его в большую жизнь. В мир, где нужны были решимость и широта горизонта… Он молча собрал вещи и уехал в Тулу.
Но в военные он тогда все равно не пошел. Вместо мундира – рабочая роба, вместо присяги – заводская проходная. Иосиф устроился токарем на самоварный завод. Судьба, словно насмехаясь, напомнила о его несбывшемся намерении стать артиллеристом: в цеху, куда его определили, производили вовсе не чайники и самовары – именно снаряды.
Видимо кто-то наверху продолжал смеяться над ним. Срочную службу в армии, как он понял уже в первый день призыва, ему тоже предстояло проходить именно в артиллерийских войсках – там, где на черных петлицах носят перекрещенные пушки. Хочешь ты того или нет – не радиостанция в живописном, отдаленном уголке аэродрома, с антеннами и березами, а стволы и снаряды. Такова твоя дорога. Новобранец лишь усмехнулся: судьба, похоже, не прощает невыполненных обещаний.
Завод и общежитие стали для него и семьей, и домом. Добросердечная вахтерша тетя Мотя, шумная и заводная воспитательница Людмила Владимировна Вильдяева, строгая – но по-матерински заботливая – комендант Антонида Семеновна, немногословный, думающий наставник Степаныч. Всегда готовая прийти на помощь новая знакомая с курсов рабочих корреспондентов – Анжела. И, конечно же, редактор заводской многотиражки «Молот» – Нелли Викторовна Синицына, которая, как он позже узнал, и сама была немкой по фамилии Винценц. Именно она настойчиво подталкивала его читать и писать, не жалела времени на правку, уговаривала, спорила – будто надеялась, а может, и верила: из него выйдет настоящий журналист.
Брат Антон, в звании прапорщика, служил охранником в одной из тульских тюрем. Жил с женой Олей и двумя детьми в деревянном бараке неподалеку от заводского общежития. С Иосифом их уже почти ничего не связывало – кроме общих родителей. Да и говорить им, по правде, было не о чем. Единственной ниточкой оставалась семилетняя племянница Наташа. Она не чаяла души в своем дяде и продолжала грезить о том, что когда-нибудь вся семья Цимерманов будет жить под одной крышей – как в сказке, где все обязательно складывается к лучшему.
Как на иконе
Сквозь полусон и слипающиеся веки засыпающая девочка все еще видела застолье в ленинской комнате общежития, как смеялись взрослые и как подстригали ее любимого дядю налысо. Чуть позже она уже спала, свернувшись калачиком на скамейке, положив голову ему на колени.
Потом Наташа смутно почувствовала, как Иосиф бережно – словно хрупкую куклу – поднял ее, стараясь не потревожить сна. Девочка инстинктивно обвила его шею руками, не просыпаясь, прижалась щекой к плечу – крепко и доверчиво, как умеют только дети.
Так они и поднялись на второй этаж. Тетя Мотя с баулом забежала вперед, чтобы открыть дверь в его комнату. Осторожно опустив Наташу на кровать, Иосиф укрыл племянницу одеялом. Сам присел за стол, протянул руку к рамке с фотографией.
Это был общий снимок – тетя Мотя, Наташа и он сам. Фотограф, проверяя пленку, тогда одобрительно пробормотал:
– Отлично вышли. Прямо как на иконе…
В ту ночь Наташе снился большой, светлый дом. Он был как из сказки – утопал в зелени, в цветущих яблонях, от которых шел такой вкусный, нежный запах, будто кто-то разлил яблочное варенье прямо по ветру. Дом стоял крепко, ровно, стены не скрипели, не шатались. Не то что их барак, где все было криво, тесно, и от соседей слышно каждое слово. Там, в том сне, не было уличного сортира, от которого несло на всю округу и который в каждую оттепель отрывался от земли и уплывал на проезжую часть дороги вместе с талыми водами и какашками, как большой зловонный корабль.
Во сне мама и папа не ругались. Папа не кричал, не замахивался, не хлопал дверьми. Он гладил маму по плечу и смеялся, а Наташа стояла рядом – босая, но счастливая, и смотрела на них широко открытыми глазами.
А потом она увидела бабулю с дедулей – не такими, как обычно. Не с бутылкой и не на полу, а веселыми, в чистой одежде. Они даже пели что-то – про костер, что не гаснет. А потом вдруг все стало темнеть, как будто вечер наступил слишком быстро, без предупреждения.
Девочка стояла у ямы. Там был гроб. Бабушка лежала в нем, и земля под ней шевелилась, будто хотела забрать. Яма уходила вглубь, все глубже, и как только гроб коснулся дна – он вдруг провалился еще ниже, в черную воду. Наташа закричала:
– Умерла… а потом еще и утонула!
Она не проснулась. Просто сон сменился. Стало тихо. Незнакомая квартира. Большая. В зале на диване лежал мужчина – кожа да кости, и глаза такие большие, будто чего-то сильно испугался. Она не узнала его, но почувствовала: это – ее папа. Только очень старый, больной, почти прозрачный. Он лежал, а глаза его были открыты и смотрели в сторону окна. А там, обрамленный лучами солнечного света, словно в абажуре, стояла фигура – тоже пожилой мужчина. Это был дядя Ёся. И тогда папа шепнул ему умирающим голосом – тихо-тихо, будто ветер шептал за него:
– Ты единственный из родных, кто пришел… Прости нас.
Холодный душ карантина
– Паааадъем! – крик разорвал чернильную темноту казармы, и только спустя несколько мучительно долгих секунд резанул глаза яркий свет. Голос оказался чужим. Но за первые дни в армии – полные тревоги и неизвестности – Иосиф уже начал привыкать к тому, что вокруг сплошь незнакомые люди.
По этому хриплому окрику с двухъярусных, тесно сбитых коек вскакивали парни, мельтеша под светом лампочек своими обезображенными безжалостной машинкой бледными черепами, порой наступая на головы и плечи спящих внизу. То ли от неожиданности, то ли от пронизывающего холода, они с посиневшими, мелко дрожащими губами, едва соображая, выстраивались в покосившуюся шеренгу, тараща глаза, как загнанные звери. В светло-голубых, сшитых из грубой байки кальсонах, босыми ногами на ледяном цементном полу, новобранцы выглядели одинаковыми – будто из гипса вылепленные статуи страха и оцепенения. Над рядами молодых тел клубилось парное облако дыхания. Воздух был пропитан сыростью и запахом застоявшегося пота.
Это была самая короткая ночь в его жизни. Во всяком случае, ему так казалось.
– Хорошо, что я всю дорогу в поезде проспал, – подбодрила его мысль.
Вчера, на подъездах к Воронежу, начался густой снегопад. За окном плацкартного вагона снег кружился вихрем, покрывая первозданной белизной придорожную серость и слякоть. Видимость была почти нулевой. Видимо, поэтому Иосиф и не заметил, как их поезд въехал на перрон вокзала.
Почти все остриженные наголо, одетые во что попало – чаще всего в изрядно поношенные телогрейки, – они могли напугать кого угодно. Видимо, поэтому их и выгрузили из вагона в самую последнюю очередь. Сопровождающий группу младший сержант дал команду на выход. Построились тут же, вдоль вагона. Устроили перекличку: командир выкрикивал фамилии, нужно было ответить: «Здесь!»
Иосиф был уверен, что его назовут чуть ли не в последнюю очередь – ведь буква «Ц» в алфавите двадцать пятая из тридцати трех. Но, с другой стороны, фамилий на оставшиеся буквы – Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю и Я – совсем немного.
В сером утреннем полумраке, сквозь густую пелену снегопада, перед его взглядом вырисовывалось старое здание вокзала с высокими окнами и массивными стенами, увенчанное красной вывеской «Воронеж». Снежные хлопья ложились на крыши и перрон, превращая очертания в зыбкий силуэт, будто вокзал медленно проступал из белесого марева зимнего сна.
Все новобранцы, согласно списку, оказались на месте. Строем в две колонны их провели сквозь зал ожидания и снова выстроили – теперь уже перед центральным входом в вокзал со стороны города. Опять устроили перекличку.
Иосиф снова задержал свой взгляд на монументальном здании. Перед ними возвышалось величественное строение с мощными колоннами, арочными окнами и украшенной лепниной крышей. Тогда он еще не знал, что это – сталинский ампир, но масштаб и холодное великолепие вокзала поражали, заставляя почувствовать себя совсем маленьким. На парапете замерли бронзовые фигуры солдат и рабочих – символы военной славы и трудового подвига, неумолимо взирающие на заснеженную площадь внизу.
Дальше их повезли в крытом грузовике. Призывники из Таджикистана при посадке тоже устроили давку, стараясь первыми подняться в кузов. Иосифу досталось место с краю переполненного МАЗа. В какой-то момент он почувствовал ледяной холод железного борта. Поежился, посторонился, а затем засунул вещмешок между своим бедром и стенкой кузова. Он на мгновение задержал взгляд на вышитом сбоку рюкзака олимпийском медвежонке, выполненном алыми шерстяными нитками. Медвежонок был размером с волейбольный мяч. Но, вспомнив, что внутри лежит портретная рамка с фотографией тети Моти и Наташи, он поспешил вернуть ее себе на колени.
В щель заднего брезентового полога Иосиф наблюдал, как за кузовом сначала мелькали мрачные городские дома, а потом они уступили место плотному лесу. Высокие ели, укутанные пушистым снегом, стояли вдоль дороги, словно сказочные великаны в белых шубах. Их лапы тяжело прогибались под свежим снегом, а сама дорога вилась узкой серой лентой, теряясь в серебристом тоннеле заснеженных ветвей. Затаив дыхание и завороженным взглядом ребенка, уроженец казахстанских степей не мог оторвать глаз от этой волшебной картины – такой чужой и одновременно завораживающе красивой. За год жизни в Туле, окруженной лесами, Иосиф так и не успел насытиться их великолепием.
Прибыли на место, когда уже стемнело. Грузовик остановился перед огромными воротами с громадной, прибитой к ним звездой. Чтобы разглядеть это, Иосиф не побоялся высунуть голову наружу. Дежурный по КПП – контрольно-пропускному пункту – проверил документы, обошел машину, приоткрыл полог и заглянул в кузов. По званию он оказался прапорщиком – как и брат Антон. Осмотревшись, весело гаркнул: