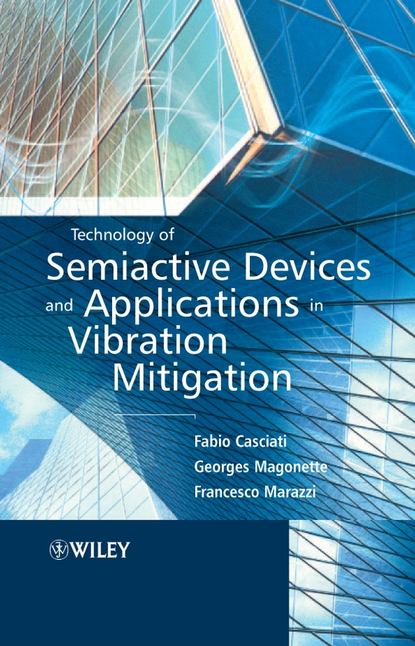- -
- 100%
- +
Что она делает это не для него. А для себя. Что это не просто изучение языка. Это – подготовка к побегу. И что её компас, так долго указывавший на юг, наконец – то получил свой маршрут. Она еще не знала, куда он её приведет. Но она знала, что должна идти на свет этого далекого оранжевого луча.
Вечер опустился на город так же методично и неотвратимо, как и начинался день. Свет в панорамных окнах сменился с серого на иссиня – черный, в котором отражалась их гостиная – остров холодного света в океане темноты. Квартира, казалось, стала еще более строгой, еще более тихой, готовясь к возвращению своего создателя.
Николь провела вторую половину дня в странном, лихорадочном оцепенении. Она не притронулась к мольберту. Вместо этого она сидела с планшетом, просматривая сайты языковых школ, читая отзывы, слушая звучание итальянской речи в коротких видеоуроках. Каждое новое слово – “sole”, “cielo”, “amore”, “libertà” – было похоже на глоток кислорода. Она повторяла их шепотом, и сам звук этих слов, казалось, наполнял комнату теплом. Она готовилась. Не к уроку итальянского. К спектаклю.
Ровно в семь тридцать, как показывали идеальные часы на стене, в замке повернулся ключ. Два четких, выверенных оборота. Щелк. Дверь открылась.
Вошел Макс.
Он принес с собой холод улицы и ауру порядка. Первым делом он аккуратно поставил свой кожаный портфель на специально отведенное для него место у стены. Затем снял кашемировое пальто и повесил его на плечики в встроенном шкафу, тщательно расправив. Шарф был сложен в идеальный прямоугольник и положен на полку. Каждый его жест был частью ритуала, призванного очистить дом от хаоса внешнего мира.
– Я дома, – произнес он, входя в гостиную. Это была не констатация для нее, а скорее команда для самого пространства: “Хозяин на месте. Принять исходное положение”.
– Привет, – Николь поднялась с дивана. Она заставила себя улыбнуться. Мышцы лица слушались плохо, словно отвыкли от этого движения. – Как прошел день?
– Продуктивно, – он ослабил узел галстука. – Утвердили проект застройки на Крестовском. Дементьев был в восторге от визуализаций. Говорит, это новый уровень для города.
Он говорил о своей работе, о линиях, материалах, о борьбе с подрядчиками, которые вечно норовили нарушить симметрию. Николь слушала, кивала, вставляла дежурные фразы: “Это потрясающе”, “Ты, как всегда, на высоте”. А сама в это время чувствовала себя шпионом на вражеской территории. Её сердце колотилось где – то в горле, но внешне она была спокойна. Она репетировала эту сцену несколько часов.
Они сели ужинать. На идеально сервированном столе стояли две тарелки с ризотто. Макс не любил сложную еду. Его пища, как и его архитектура, должна была быть лаконичной и понятной. Ризотто с белыми грибами. Монохромно. Элегантно.
Они ели в тишине, нарушаемой лишь едва слышным стуком столовых приборов о дорогой фарфор. Николь ждала подходящего момента. Она знала, что начинать разговор нужно тогда, когда он закончит с основной частью ужина и возьмет в руки бокал с водой. Это был его сигнал к тому, что деловая часть дня завершена и можно перейти к “личному”.
Макс отложил вилку, промакнул губы салфеткой и сделал глоток воды.
Сейчас.
– Макс, я сегодня думала… – начала она, и её голос, к её собственному удивлению, прозвучал ровно и спокойно.
Он поднял на нее глаза. Во взгляде читалась вежливая заинтересованность.
– Я думала о твоей работе. О будущем. Ты выходишь на международный уровень, у тебя все больше контактов с европейскими компаниями. Особенно с итальянцами. Все эти фабрики… мебель, свет, камень.
Она сделала паузу, наблюдая за его реакцией. Он слегка кивнул, одобряя ход её мыслей. Она говорила на его языке.
– И я подумала, что коммуникация – это ключ, – продолжала она, тщательно подбирая слова, словно выстраивала предложение из кубиков Lego. – Иногда языковой барьер, даже с переводчиком, мешает наладить личный контакт. Понять нюансы.
– Это факт, – согласился он. – С Бертони из "Luce Pura" мы полчаса пытались через переводчика объяснить разницу между холодным и нейтральным белым светом. Утомительно.
Вот оно. Она нашла точку входа.
– Именно, – Николь позволила себе чуть больше тепла в голосе. – И я подумала… я ведь все равно сейчас не работаю над крупными проектами. У меня есть время. И я хочу быть более полезной тебе. Нам. Я подумала, что это было бы очень разумной инвестицией в наше общее дело, если бы я выучила итальянский.
Она замолчала, выложив на стол свой главный козырь, завернутый в обертку из логики и прагматизма. Она не сказала: “Я хочу этого, потому что моя душа умирает”. Она сказала: “Это будет выгодно для твоего бизнеса”.
Макс откинулся на спинку стула, сцепив пальцы. Он смотрел на неё, но взгляд его был направлен внутрь. Он анализировал. Взвешивал “за” и “против”. В его голове сейчас, наверное, строилась диаграмма эффективности этого предложения. Николь затаила дыхание.
– Итальянский… – произнес он медленно, пробуя слово на вкус. – Это… неожиданно. Но в этом есть рациональное зерно.
Он смотрел на неё так, словно впервые увидел. Словно неодушевленный предмет в его коллекции вдруг проявил полезную функцию.
– Ты уверена, что у тебя хватит дисциплины? – спросил он, и это был не упрек, а технический вопрос. – Изучение языка требует системного подхода.
– Уверена, – твердо ответила она. – Я хочу быть частью твоего мира не только как… украшение. Я хочу помогать. Я могла бы вести переписку, просматривать каталоги в оригинале, возможно, даже помогать на встречах.
Она видела, как идея ему понравилась. Он уже не просто слушал, он достраивал её мысль, развивал её.
– Да… – он кивнул. – Это действительно могло бы оптимизировать многие процессы. Жена–партнер, говорящая на языке поставщиков… Это производит правильное впечатление. Это солидно.
Он улыбнулся. И в этой улыбке не было радости за неё, за её новое увлечение. В ней было удовлетворение от хорошо продуманного бизнес – решения. Он одобрил её идею, как одобрял чертеж с удачной планировкой.
– Хорошо, – вынес он вердикт. – Я согласен. Это отличная мысль, Ник. Я удивлен, что ты подошла к этому так конструктивно.
Укол. Он удивлен. Он не ожидал от неё ничего, кроме эмоциональных порывов. Она проглотила обиду. Главное – результат.
– Я рада, что ты так думаешь, – сказала она.
Но на этом Макс не остановился. Её идея тут же перестала быть её. Она стала “его” проектом.
– Так, не нужно искать какие–то групповые курсы, это пустая трата времени, – он уже мысленно составлял план. – Я найду тебе лучшего репетитора в городе. Носителя языка. Составим интенсивную программу. Три – четыре занятия в неделю. Нужно будет оборудовать тебе рабочее место. Купить хорошие словари, учебники. Я займусь этим завтра. Мы подойдем к этому системно. Через полгода ты должна будешь свободно изъясняться на бытовые темы. Через год – вести деловую переписку.
Он говорил, а Николь смотрела на него, и её охватывал двойственное чувство. С одной стороны – ледяной ужас от того, как легко он присвоил её мечту, как он превратил её тайный побег в очередной пункт своего органайзера. Он собирался построить ей еще одну клетку, на этот раз – с итальянскими прутьями.
А с другой стороны – её захлестнула волна дикого, злого триумфа. Он поверил. Он ничего не понял. Он сам, своими руками, дал ей оружие. Он думал, что строит мост для своего бизнеса, а на самом деле он прокладывал ей дорогу к тому оранжевому лучу на черном холсте.
– Спасибо, милый, – сказала она, и в её голосе прозвучала искренняя благодарность. – Я знала, что ты меня поддержишь.
Она протянула руку через стол, и он накрыл её своей ладонью. Его прикосновение было сухим и прохладным. Формальным. Как рукопожатие после удачной сделки.
Позже, когда они уже лежали в постели, в их огромной, минималистичной спальне, где даже тени ложились под правильным углом, Макс повернулся к ней.
– Ты знаешь, – сказал он в темноту, – я подумал. Когда ты достигнешь определенного уровня… скажем, через год… мы могли бы съездить в Милан. На Salone del Mobile. Это была бы отличная практика для тебя и польза для меня.
Милан. Город дизайна, моды и бизнеса. Его город.
Николь молча улыбнулась в темноте.
“Мы поедем в Рим”, – подумала она. – “Ты еще не знаешь об этом. Но мы поедем в Рим”.
Это была её первая настоящая тайна от него за десять лет. И она была на вкус как самое сладкое, самое запретное в мире вино. Она лежала рядом с ним, в его идеальной кровати, в его идеальном доме, и впервые за долгое время чувствовала себя не его частью, а отдельным, самостоятельным человеком. Человеком, у которого появился свой секретный, огненно – оранжевый план.
***
Прошло три месяца. Три месяца, которые перевернули внутренний мир Николь с ног на голову, хотя внешне её жизнь оставалась такой же выверенной и безупречной. Макс, верный своему слову, подошел к проекту “Итальянский для бизнесмена” с присущей ему основательностью. Он действительно нашел лучшего репетитора – синьора по имени Алессандро Росси, пожилого флорентийца с идеальным произношением и манерами аристократа. Он оборудовал для Николь в кабинете идеальное рабочее место: стол из светлого дуба, эргономичное кресло, дорогие словари в кожаных переплетах. Всё было правильно. Всё было под контролем.
Но Макс не учел одного. Язык – это не мертвый камень, из которого можно высечь идеальную статую. Язык – это живая, бурлящая река, которая сама выбирает себе русло.
Дважды в неделю в их стерильную квартиру приходил синьор Алессандро. Он был воплощением классической Италии, той самой, о которой пишут в путеводителях. Он учил Николь говорить на языке Данте, Петрарки и безупречной оперной дикции. И она была прилежной ученицей. Она зубрила грамматику, спрягала глаголы, её произношение становилось всё чище. Макс был доволен. Его проект развивался по плану.
Но была и другая, тайная жизнь. Жизнь, которая начиналась, когда синьор Алессандро уходил, а Макс был на работе. Жизнь, в которой Николь погружалась в интернет не за правилами, а за душой языка. Она нашла форумы, где общались римляне. Она смотрела фильмы с субтитрами, где герои говорили не на рафинированном итальянском, а на грубоватом, певучем и невероятно живом романеско.
Она узнала, что "andiamo" (пойдем) в Риме превращается в энергичное "annamo". Что вместо "che cosa fai?" (что ты делаешь?) можно бросить короткое "che te stai a fa'?". Что удивление выражается не длинной фразой, а емким "Aò!". Это был другой язык. Язык улиц, а не учебников. Язык Эннио Санти. И он пьянил её, как терпкое домашнее вино.
В тот день она была одна. Сидела, поджав под себя ноги, на диване в гостиной – святая святых порядка Макса. В ушах – беспроводные наушники, которые он ей подарил, чтобы она “не нарушала акустическое пространство”. Но в этих наушниках звучал не Вивальди. Оттуда бил жесткий, рваный бит, и молодой, хрипловатый голос читал рэп на таком густом романеско, что поначалу она не понимала и половины слов. Это был Ultimo. Она открыла для себя его случайно, и его музыка стала для неё откровением. Он пел о любви, боли, о римских окраинах, о мечтах и разочарованиях с такой обезоруживающей искренностью, что у нее перехватывало дыхание.
Она закрыла глаза, откинувшись на спинку дивана, и тихонько подпевала, коверкая слова:
“Vedrai che è bello camminare senza mai sapere
Senza mai sapere dove ti portano i passi
È la fantasia che trasforma in pianeti i sassi”…
Она качала головой в такт музыке, и несколько прядей выбились из её гладкой прически. На губах играла легкая улыбка. В этот момент она не была Николь Вольской, женой успешного архитектора. Она была просто Ник. Девчонкой, которая снова нашла свой саундтрек.
Она так увлеклась, что не услышала, как щелкнул замок. Макс вернулся раньше обычного.
Он остановился на пороге гостиной, глядя на неё. На его лице отразилось недоумение, какое бывает у человека, обнаружившего, что его идеально настроенные швейцарские часы вдруг начали играть сальсу. Она сидела на “его” диване, в “его” идеальной гостиной, и дергала головой в такт какому–то невообразимому грохоту, который, видимо, лился из её наушников.
Она почувствовала его взгляд и открыла глаза. Музыка оборвалась на полуслове. Она быстро сняла наушники, словно её поймали на месте преступления.
– Макс! Ты… ты рано.
– Заседание отменили, – ответил он, медленно проходя в комнату. Его взгляд был цепким, анализирующим. – Что ты слушаешь?
– А… так, – она растерялась. – Музыку. Итальянскую. Для практики.
– Музыку? – он подошел ближе. – Я думал, Алессандро рекомендовал тебе слушать классические арии для постановки произношения. Челентано, в крайнем случае. Судя по твоему виду, это был не Паваротти.
Он протянул руку.
– Дай послушать.
Сердце ухнуло куда – то вниз. Это был допрос. Спокойный, вежливый, но от этого еще более страшный.
– Там ничего интересного, правда. Просто… современная эстрада.
– Николь, дай, пожалуйста, наушники, – в его голосе появились стальные нотки.
Она подчинилась. Протянула ему белый пластиковый футляр. Он взял один наушник, вставил в ухо. Николь нажала на "play" на планшете.
Из маленького динамика полился хриплый речитатив и агрессивный бит. Лицо Макса не изменилось, но Николь увидела, как напряглись желваки на его скулах. Он слушал секунд десять, не больше. Затем вынул наушник и аккуратно положил его на стол.
– Что. Это. Было? – спросил он, разделяя слова.
– Это… римский рэпер. Ultimo. Он сейчас очень популярен, – пролепетала она.
– Рэпер, – он произнес это слово так, будто оно было ругательством. – Николь, мы с тобой договаривались об изучении итальянского языка. Языка культуры, искусства, дизайна. Языка, на котором мы будем вести переговоры с партнерами. А это что? Это какой – то уличный жаргон, положенный на примитивный ритм.
– Но это живой язык! – она сама удивилась своей смелости. – Так говорят люди, Макс. На улицах…
– Мы с тобой не будем вести переговоры на улицах! – он повысил голос, что случалось крайне редко. – Наш уровень – это миланские шоу–румы и венецианские биеннале. Ты должна учить язык, на котором говорят там. Чистый, правильный, литературный язык. “La bella lingua!” А не это… это вульгарное наречие.
Прозвучало слово "наречие". Презрительное, уничтожающее. Оно ударило её по щекам.
– Это не наречие, это диалект. Романеско. В нем… в нем есть душа, – прошептала она.
– Душа? – он усмехнулся. – Оставь душу для художников с Монмартра. Нам с тобой нужна структура, чистота и эффективность. Я плачу Алессандро огромные деньги, чтобы он ставил тебе флорентийское произношение, а ты сводишь все его усилия на нет, слушая эту… какофонию. Ты понимаешь, что ты просто портишь себе акцент?
Он подошел к ней вплотную.
– Я хочу, чтобы ты это удалила. Всю эту… музыку. И больше к этому не возвращалась. Слушай оперу. Слушай новостные каналы RAI. Это будет полезно. А это – глупость.
Он смотрел на неё сверху вниз, и в его взгляде была смесь разочарования и отеческой строгости. Он не был зол. Он был… прав. С его точки зрения. Он просто исправлял ошибку в своем проекте. Устранял баг в программе.
Николь стояла, опустив голову. Внутри всё кипело. Каждое его слово – “вульгарный”, “глупость”, “испортишь акцент” – было ударом по тому хрупкому, живому, что только – только начало в ней прорастать. Он хотел выполоть этот росток, потому что он был сорняком в его идеальном саду.
И в этот момент она могла бы, как обычно, кивнуть, извиниться и всё удалить. Вернуться в свою серую, безопасную оболочку.
Но что – то изменилось. Тот оранжевый луч на картине Эннио, та хриплая искренность в голосе римского рэпера… они уже пустили в ней корни.
Она подняла на него глаза. В них не было слез. В них было холодное, спокойное упрямство.
– Хорошо, – сказала она тихо.
Макс удовлетворенно кивнул. Конфликт был исчерпан. Порядок восстановлен. Он отвернулся и пошел в свой кабинет, уже забыв об инциденте.
А Николь смотрела ему в спину. Она не собиралась ничего удалять. Она просто создаст новый, секретный плейлист. Она будет заниматься еще усерднее, чтобы её классический итальянский стал безупречным – для него. Но в своей тайной жизни, в наушниках, в душе, она будет учить другой язык. Она будет шептать про себя это резкое, певучее “Aò, che te guardi?” (Эй, чего смотришь?), представляя, как однажды скажет это на римской улице.
Она подошла к окну. Петербургский вечер был черен, как холст Эннио. Но теперь она знала – даже в самой густой тьме всегда есть место для одного упрямого, обжигающего, оранжевого луча. И она больше не позволит его погасить. Никому.
Первая глава её бунта была написана. И она была написана на романеско.
Глава 2
Ресторан “Cristallo” был апофеозом философии Макса. Он парил над городом на крыше небоскреба, словно ледяной дворец, отгороженный от хаотичной жизни Петербурга панорамными стеклами в три человеческих роста. Здесь всё было продумано, выверено и лишено тепла. Хрустальные люстры, похожие на сложные математические формулы, застывшие в стекле, бросали холодные, острые блики на идеально полированный черный мрамор пола. Столы были расставлены с геометрической точностью, каждый прибор лежал под строго определенным углом. Даже официанты двигались по залу бесшумно, по невидимым траекториям, словно запрограммированные механизмы. Это был мир, из которого удалили все случайности, все живые эмоции. Мир, в котором Николь должна была сегодня блистать.
Она сидела за столом, и её осанка была безупречна. Позвоночник – прямая линия, плечи расправлены, руки сложены на коленях. На ней было платье из тяжелого темно – синего шелка, почти черного, которое Макс выбрал лично. Оно ощущалось на коже как прохладная вода, но при этом сковывало движения, заставляя помнить о себе каждую секунду. Длинные, узкие рукава скрывали её татуировки, а высокий, глухой ворот, казалось, мешал не только дышать, но и говорить что – то, кроме заученных фраз. Она была произведением искусства, выставленным в идеальном зале. Красивая, дорогая, неодушевленная.
Напротив сидели синьор Фабрицио Ринальди, владелец миланской мебельной империи “Rinaldi Casa”, и его жена, синьора Элеонора. Он – мужчина за шестьдесят, но с энергией тридцатилетнего. Его костюм от Brioni сидел безупречно, а взгляд живых, чуть прищуренных глаз, казалось, сканировал собеседника, мгновенно оценивая его стоимость и потенциальную полезность. Его жена была его полной противоположностью: хрупкая, тихая, с лицом, тронутым умелой пластикой и подернутым легкой вуалью скуки. Её единственным ярким пятном была нитка крупного жемчуга, идеально гармонировавшая с её пепельными волосами. Рядом с ними Макс выглядел как хозяин положения. Он был расслаблен, уверен, он говорил на своем универсальном языке – языке амбиций, бетона и больших денег.
– …и таким образом, мы не просто строим здание, мы создаем новую экосистему, – Макс плавно очертил в воздухе контуры воображаемого фасада. – La luce diventa un materiale da costruzione. Concreto come il travertino. Свет становится строительным материалом. Таким же конкретным, как травертин.
Синьор Ринальди отпил немного красного вина, задумчиво покачал бокал, наблюдая, как рубиновые слезы стекают по тонкому стеклу.
– Affascinante, Signor Volsky. Un approccio quasi filosofico. Ma molto audace. Il mercato russo è pronto per questa audacia? (Очаровательно, синьор Вольский. Почти философский подход. Но очень смелый. Российский рынок готов к такой смелости?)
Это был момент. Макс повернулся к Николь. Его улыбка была мягкой, почти нежной, но глаза отдавали четкий, холодный приказ: “Вступай. Покажи товар лицом”.
Николь сделала неглубокий вдох, чувствуя, как шелк платья натягивается на груди.
– Signor Rinaldi, perdoni la mia impertinenza, – начала она, и её голос полился ровно и мелодично, как вода из чистого источника. – Signor Volsky ritiene che l'architettura non debba seguire il mercato, ma formarlo. Non deve dominare la natura, ma dialogare con essa. Le persone sono stanche del lusso ostentato. Vogliono onestà. L'onestà della linea, l'onestà del materiale. (Синьор Ринальди, простите мою дерзость. Синьор Вольский считает, что архитектура не должна следовать за рынком, а формировать его. Не должна доминировать над природой, а вступать с ней в диалог. Люди устали от показной роскоши. Они хотят честности. Честности линии, честности материала).
Её итальянский был не просто правильным. Он был совершенным. Акцент – чистейший “fiorentino”, каждое слово произнесено с кристальной ясностью. Это был язык не для общения, а для демонстрации. Язык–экспонат. И он произвел должный эффект.
Синьора Элеонора, до этого момента безучастно ковырявшая вилкой салат, подняла на Николь глаза, полные искреннего, почти детского изумления.
– Mamma mia! Ma lei parla un italiano perfetto, signora! È assolutamente incredibile! Ha vissuto da noi, in Italia? A Firenze, forse? (Боже мой! Но вы говорите на идеальном итальянском, синьора! Абсолютно невероятно! Вы жили у нас, в Италии? Во Флоренции, может быть?)
Николь изобразила легкую, скромную улыбку, которую оттачивала неделями.
– La ringrazio, è troppo gentile. No, purtroppo non ho mai avuto questo piacere. Studio la vostra splendida lingua solo da sei mesi. Mio marito ritiene che sia un elemento fondamentale per costruire un rapporto di fiducia con i nostri partner. (Благодарю вас, вы слишком добры. Нет, к сожалению, никогда не имела такого удовольствия. Я изучаю ваш прекрасный язык всего шесть месяцев. Мой муж считает, что это фундаментальный элемент для построения доверительных отношений с нашими партнерами).
“Мой муж считает. Наши партнеры.” Она снова и снова подчеркивала свою принадлежность ему, свою функцию. Она была не личностью, а инструментом. Идеально настроенным, дорогим инструментом. Макс довольно откинулся на спинку стула. Презентация проходила успешно.
Весь оставшийся ужин превратился в её бенефис. Она была безупречна. Она поддерживала разговор с синьорой Элеонорой о трудностях выбора между виллами на озере Комо и в Форте–дей–Марми. Она обсуждала с синьором Ринальди тонкости обработки каррарского мрамора, используя профессиональную лексику, которую зазубрила накануне. Она переводила сложные метафоры Макса, превращая его холодные концепции в элегантные итальянские фразы.
А в это время внутри неё, за стеной из идеальных глагольных форм и правильных артиклей, бушевала немая истерика. Каждое слово, слетавшее с её губ, казалось ей предательством. Она говорила на языке страны, которую любила заочно, до боли, до дрожи, но она говорила на его мертвом, выхолощенном диалекте. Под слоем безупречной грамматики в её голове пульсировал, как неоновая вывеска, хриплый голос Эннио из того единственного интервью: “L'anima… quella bastarda brillerà sempre” (Душа… эта вредина всё равно будет светить).
Где сейчас её душа? Под каким слоем этого синего шелка и флорентийского произношения она задыхается? Ей отчаянно хотелось запустить пальцы в свою идеальную прическу, сбросить туфли, закричать на весь этот стеклянный зал что–то простое, живое, неправильное. “Ma annatevela a pija' nder culo co' 'sta architettura!” (Да идите вы к черту с этой вашей архитектурой!). Но она лишь грациозно взяла бокал с водой и сделала маленький, вежливый глоток.
Когда принесли десерт, она уже едва сдерживала дрожь. Панна–котта, белая и гладкая, как всё в этом ресторане, дрожала на тарелке в унисон с её нервами. Она ела её крошечной ложечкой, и приторная сладость казалась ей вкусом лжи.
Прощание было долгим и полным комплиментов. Синьор Ринальди, прощаясь, взял её руку и поднес к губам. Его прикосновение было сухим и формальным, но слова прозвучали с искренним восхищением.
– Signora Volskaya, lei non è solo una donna bellissima, lei è un vero tesoro. Suo marito è un uomo molto, molto fortunato a possederla. (Синьора Вольская, вы не просто красивая женщина, вы настоящее сокровище. Ваш муж очень, очень удачливый человек, что владеет вами).
“Possederla”. Владеет вами. Не “что вы у него есть”, а именно “что владеет вами”.
Это слово, сказанное как комплимент, ударило её, как пощечина.
В ледяной тишине лифта, спускающегося с небес на землю, она смотрела на свое отражение в зеркальной стене. Красивая, безупречно одетая женщина. Сокровище. Вещь.