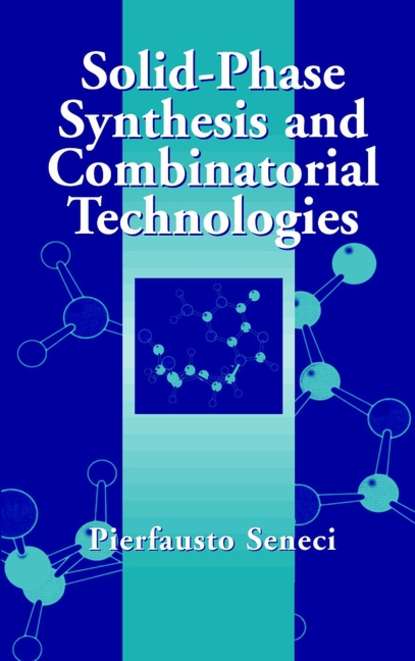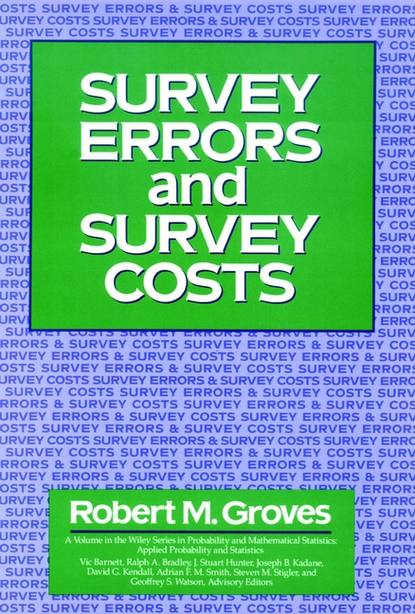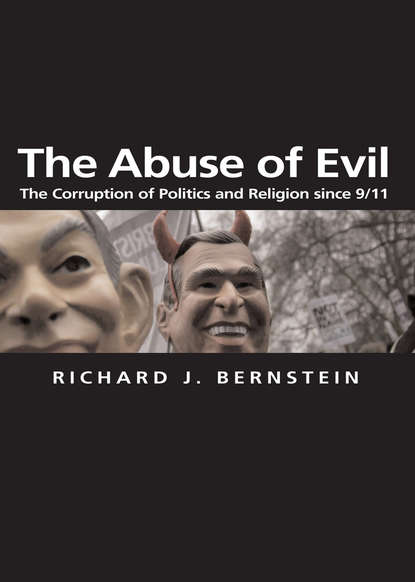- -
- 100%
- +
Каждый день она подходила к ней, смотрела на неё, прикасалась к шершавой, застывшей краске. Это был её манифест. Её доказательство того, что она всё ещё существует. И с каждым днем в ней росло новое, странное и пугающее желание. Желание, чтобы её беззвучный крик был услышан. Не Максом. Кем – то другим.
В тот вечер Макс уехал на очередную деловую встречу, которая обещала затянуться допоздна. Квартира погрузилась в тишину, но теперь эта тишина не давила на Николь. Она была пространством для неё, её личной сценой.
Она сделала то, чего не делала уже много лет. Включила музыку в гостиной. Не через наушники. Колонки, встроенные в стены – еще один элемент идеальной системы Макса – наполнили воздух не Вивальди, а жесткими битами и хриплым голосом того самого римского рэпера. Она выставила громкость на уровень, который Макс счел бы “неприличным”. Она налила себе бокал красного вина – насыщенного, терпкого сицилийского Nero d'Avola, купленного ею тайно, – совсем не того легкого и элегантного пино–нуар, что одобрял Макс.
С бокалом в руке она подошла к своей картине. Музыка гремела, вино согревало кровь. Она долго смотрела на неё, на эту черную пропасть, разорванную оранжевым шрамом. Она видела в ней не просто выплеск эмоций. Она видела в ней историю. Свою историю. И ей отчаянно захотелось дать ей имя, дать ей голос.
Она взяла телефон. Открыла заметки. Пальцы сами начали летать над клавиатурой, набирая слова, которые рождались где–то в глубине, без цензуры, без оглядки на “хороший вкус”.
“Нас учат, что тьма – это просто отсутствие света. Пустота. Но это ложь. Тьма – это материя. Густая, тяжелая, как бархат или влажная земля после дождя. В ней можно утонуть. Она может поглотить тебя целиком. Но иногда, если очень долго в ней находиться, не пытаясь сбежать, начинаешь понимать, что она – это тоже ты. Это все твои страхи, все твои "нет", все твои невысказанные слова и непролитые слезы. А свет… он не приходит извне. Его не включают по щелчку выключателя. Он рождается внутри. Как трещина в вековом леднике. Как первый упрямый росток, пробивающий толщу асфальта. Он не побеждает тьму. Он не заливает её собой. Он просто доказывает, что даже в самой беспросветной черноте есть место для жизни. Для одного–единственного, яростного, обжигающего луча”.
Она перечитала написанное. Это было сумбурно, пафосно, обнаженно. Но это была правда. Её правда. Она сделала несколько фотографий картины, выключив верхний свет и оставив только боковой, чтобы он подчеркнул рельеф, текстуру краски. Чтобы была видна ярость в каждом рваном мазке.
И тут её палец замер над иконкой приложения.
Её аккаунт был блогом идеальной жены. Безупречной, как и всё в её жизни. Элегантные фотографии из путешествий, где они с Максом всегда стояли в выверенных позах. Снимки его архитектурных шедевров. Редкие, тщательно отобранные селфи. Это была витрина, глянцевая обложка несуществующего журнала. Пустота.
Выложить туда “это”? Эту кровоточащую рану? Показать всем этим людям, которые знали её как безупречную, спокойную, немного скучную миссис Вольскую, свой хаос, свою боль, свою тьму?
Страх ледяной, липкой рукой сжал ей горло. Что скажет Макс, когда увидит? Он будет в ярости. Не в громкой, а в холодной, презрительной. Что подумают его друзья, его клиенты? Это безумие. Это акт социального самоубийства.
Она уже готова была закрыть приложение, удалить фотографии и текст. Спрятаться обратно в свою раковину.
Но потом она вспомнила слова из того интервью, которые стали её мантрой: “L'anima… quella bastarda brillerà sempre”.
“К черту”, – прошептала она в тишину, нарушаемую лишь музыкой. “К черту их всех”.
Её пальцы забегали по экрану. Она выбрала лучшее фото. Скопировала свой текст. И нажала кнопку “Опубликовать”.
Секунду, две, три ничего не происходило. А потом пост появился в её ленте. Черно–оранжевое пятно боли посреди выверенных, холодных фотографий её идеальной жизни. Инородное тело. Вирус. Сбой в матрице.
Сердце колотилось так, что казалось, оно вот – вот пробьет ребра. Она отбросила телефон на диван, словно он обжигал ей руки. Прошлась по комнате, сделала большой глоток вина, потом еще один. Что она наделала?
Но вместе со страхом было и другое, новое чувство. Опьяняющее, головокружительное, похожее на невесомость. Чувство свободы. Она сделала это. Она закричала на весь мир. И пусть они думают, что хотят.
Дрожащей рукой она снова взяла телефон. Уже появились первые лайки. От её флорентийской подруги–галеристки. От пары старых университетских знакомых, с которыми она не общалась сто лет. Появился первый комментарий от подруги: “Ник, это… просто невероятно. Мощно. Это ты нарисовала? Я и не знала, что ты…”.
Она улыбнулась. Её заметили. Её “увидели”.
А потом ей в голову пришла еще одна, совсем уже безрассудная мысль. Мысль, от которой перехватило дыхание.
Она открыла поиск. Ввела имя, которое уже знала наизусть: Ennio Santi.
Вот его профиль. Десятки тысяч подписчиков. Фотографии его картин, все в той же черно–оранжевой гамме, но такие другие – уверенные, мощные, мужские. Снимки из его студии, полной благородного хаоса. Фотографии самого Рима – не парадного, а настоящего, с обшарпанными стенами, с граффити, с котами, спящими на капотах старых “Фиатов”. Она смотрела на его лицо на одной из фотографий. Он смеялся, и в его глазах плясали искры. Он казался ей таким далеким, как звезда, и в то же время таким родным, как отражение в зеркале.
Она вернулась на свою страницу, к своему посту. И, почти не дыша от собственной дерзости, нажала “Редактировать”.
Она добавила хэштеги. #abstractart #contemporaryart #russianart #blackandorange.
И последний. Один, самый главный. Как сигнал бедствия, как молитва.
#enniosanti
Она не стала отмечать его на фото. Это было бы слишком прямолинейно, слишком навязчиво. Она просто бросила его имя в бесконечный цифровой океан. Как бутылку с запиской. Шанс, что он её увидит среди тысяч других упоминаний, был ничтожен. Один на миллион. Но он был.
Она снова нажала “Сохранить”. Всё. Теперь пути назад не было.
Она допила вино, выключила музыку и пошла спать. И впервые за долгие годы она засыпала не с чувством тоски, а с замиранием сердца, полным странной, иррациональной надежды. Она отправила сигнал в темноту. И где – то там, за тысячи километров, в городе, который ждал её, этот сигнал мог быть получен. А мог и не быть. Но она сделала свой ход. Игра началась.
Глава 3
Момент, когда шасси самолета коснулись взлетно–посадочной полосы аэропорта Фьюмичино, для Николь был сродни второму рождению. Мягкий толчок, короткий, пронзительный визг шин о раскаленный бетон – и всё. Она здесь. Земля под её ногами, скрытая пока еще километрами металла и пластика, была итальянской. Она прикрыла глаза, и на её губах сама собой появилась улыбка – первая искренняя, неконтролируемая улыбка за много дней.
Пока самолет медленно рулил к терминалу, Макс уже был в своей стихии. Он отстегнул ремень безопасности в ту же секунду, как погасло табло, достал с багажной полки их два одинаковых, минималистичных чемодана Rimowa и стоял в проходе, излучая ауру спокойного нетерпения. Он не смотрел в иллюминатор. Для него прибытие было лишь очередной галочкой в плане, переходом от одного этапа к другому.
Но Николь смотрела. Она прижалась лбом к прохладному стеклу, пытаясь разглядеть хоть что – то. И она увидела. Другой свет. Петербургский свет был акварельным, размытым, серым или в лучшем случае бледно–голубым. Римский свет был густым, золотым, почти осязаемым, как оливковое масло. Он заливал всё вокруг, заставляя даже унылые служебные постройки аэропорта выглядеть живописно. Она увидела пинии – деревья–зонтики, которые она до этого видела только на картинах. Они стояли вдоль дороги, гордые, раскидистые, совершенно не похожие на строгие, прямые деревья её родного города.
– Идем, – голос Макса вернул её в реальность. Пассажиры уже двигались к выходу.
Первый шаг из кондиционированной прохлады самолета на трап был как прыжок в теплую воду. Воздух. Он был совершенно другим. Густой, влажный, напоенный незнакомыми ароматами: цветущего жасмина, горячего асфальта, соли, доносящейся с недалекого моря, и чего–то еще, пряного, неуловимого – запаха самой вечности. Николь вдохнула полной грудью, и у неё слегка закружилась голова. Она чувствовала себя растением, которое всю жизнь провело в теплице и впервые попало под настоящее солнце.
– Слишком влажно, – констатировал Макс, идя впереди. – Надеюсь, в машине будет хороший климат–контроль.
В здании аэропорта их поглотил гул. Но это был не безликий шум толпы. Это была музыка. Музыка итальянской речи. Она лилась отовсюду – быстрая, певучая, эмоциональная. Объявления по громкой связи, смех группы подростков, воркование пожилой пары, сердитый говор таможенника. Николь шла сквозь этот звуковой поток, как завороженная, пытаясь выхватить знакомые слова, уловить мелодию. Она чувствовала себя дома.
Макс же, напротив, двигался сквозь эту толпу, как ледокол сквозь рыхлый лед. Его лицо выражало легкое, хорошо контролируемое раздражение. Он не любил хаос, а аэропорт был его концентрированным воплощением.
– Так, наш водитель должен ждать у выхода с табличкой, – сказал он, сверяясь с телефоном. – Я заказал Mercedes S–класса. Главное – быстро выбраться из этого муравейника.
Они получили багаж и прошли через зеленый коридор. И действительно, у выхода, чуть в стороне от шумной толпы встречающих, стоял высокий мужчина в темном костюме и с планшетом в руках, на котором было выведено: “Signor Volsky”.
– Buonasera, – кивнул водитель, забирая у них чемоданы. Его лицо было непроницаемым.
– Buonasera, – ответил Макс своим выверенным, деловым итальянским. Николь промолчала, чувствуя себя немного разочарованной. Ей хотелось окунуться в языковую среду, попрактиковаться, но Макс и здесь всё организовал так, чтобы свести контакты с “простыми людьми” к минимуму.
Их провели на вип–парковку к блестящему черному седану. Внутри пахло дорогой кожей и кондиционером. Дверь захлопнулась, отсекая шум и запахи внешнего мира. Они снова оказались в герметичной капсуле, в передвижном филиале их петербургской квартиры. Макс с удовлетворением откинулся на сиденье.
– Вот, – сказал он. – Цивилизация.
Машина плавно тронулась. Николь прильнула к окну. Она ожидала увидеть знаменитые римские улочки, хаотичное движение, скутеры. Но Макс, как выяснилось, продумал и это.
– Я специально попросил водителя поехать по Grande Raccordo Anulare, – пояснил он, заметив её взгляд. – Это кольцевая автодорога. Так мы объедем центр и избежим пробок. Наш отель на севере, у парка Виллы Боргезе. Самый респектабельный район. Тихо, зелено, никакой суеты.
Николь молча смотрела, как за окном проносятся промышленные зоны, окраины, многоэтажки, похожие на многоэтажки в любом другом мегаполисе мира. Она чувствовала себя обманутой. Она прилетела в Рим, но Рим от неё прятали, как что–то неприличное.
Через сорок минут они свернули с автострады и въехали в тихий, утопающий в зелени район. Величественные виллы за высокими заборами, посольства, дорогие автомобили. Никаких туристов, никакого шума. Машина остановилась у входа в отель. Это было красивое, старинное здание, но его фасад был настолько идеально отреставрирован, что казался искусственным. Швейцар в ливрее распахнул перед ними дверь.
Внутри царила тишина и прохлада. Мрамор, хрусталь, приглушенный свет. Вежливые улыбки персонала. Всё было безупречно. И абсолютно безжизненно. Это мог быть отель в Париже, Лондоне или Нью–Йорке. Ничто, кроме вежливого “benvenuto” от консьержа, не напоминало о том, что они в Италии.
– Тебе нравится? – с гордостью спросил Макс, пока они поднимались в лифте в свой люкс. – Один из лучших в городе. Никаких случайных людей.
Николь выдавила улыбку.
– Он… очень красивый.
Их номер был огромным. Гостиная, спальня, гардеробная, ванная комната размером с её старую студенческую квартиру. Интерьер был выполнен в спокойных, бежево–серых тонах. Минимализм. Качественные материалы. Ни одной лишней детали. Это была очередная золотая клетка. Просторная, роскошная, но всё равно клетка.
Макс прошел к огромному окну, раздвинул тяжелые шторы.
– А вот и вид. Как я и заказывал.
За окном расстилался зеленый ковер парка Виллы Боргезе. Красиво. Спокойно. Идеально. И бесконечно далеко от того Рима, который она себе представляла.
– Здесь мы сможем по – настоящему отдохнуть, – сказал Макс, обнимая её сзади за плечи. – Никакого стресса. Я распакую вещи, а ты можешь принять ванну. Потом закажем ужин в номер. Я не хочу сегодня никуда выходить. Нужно адаптироваться.
Он говорил правильные, заботливые слова, но Николь чувствовала, как её эйфория, которую она испытала в аэропорту, улетучивается, испаряется, как капля воды на раскаленной сковороде. Её привезли в город её мечты, чтобы запереть в роскошном номере с видом на парк.
Она высвободилась из его объятий и подошла к другому окну, выходившему во внутренний двор. Отсюда, если сильно высунуться, был виден кусочек соседней крыши, покрытой старой, выцветшей черепицей. На крыше стоял горшок с геранью и спутниковая тарелка. И этот маленький, несовершенный, живой фрагмент был для неё дороже и реальнее, чем весь идеальный вид на парк.
Она приоткрыла створку. И в комнату ворвались звуки. Негромкие, далекие, но настоящие. Гудок машины, лай собаки, обрывок какой – то итальянской песни из чьего–то окна, смех. И запахи. Запах готовящейся еды – чеснок, томаты.
Она закрыла глаза, вдыхая этот воздух. Вот он. Рим. Он был там, за стенами этого отеля, за рамками плана, составленного Максом. Он звал её.
– Закрой окно, Ник, – раздался за спиной голос Макса. – Кондиционер работает.
Она обернулась. Он уже открыл чемодан и аккуратно развешивал свои идеально отглаженные рубашки в шкафу.
Николь медленно, нехотя закрыла окно. Звуки и запахи исчезли. Снова наступила тишина.
Она поняла, что её настоящая битва за Рим только начинается. И вести её придется не с городом, а с собственным мужем.
***
Утро ворвалось в их номер потоком расплавленного золота. Римский свет был настолько плотным и ярким, что, казалось, его можно было пить, как апельсиновый фреш. Он пробивался сквозь малейшие щели в тяжелых шторах блэкаут, рисуя на полу и стенах огненные полосы. Николь проснулась не от будильника, а от самого ощущения этого света, от его настойчивого, почти физического призыва к жизни. Она тихонько, чтобы не разбудить Макса, подошла к окну, отодвинула бархатную ткань и на мгновение замерла, ослепленная.
Небо было невероятного, пронзительно – голубого цвета, цвета индиго, какой бывает только на юге. Внизу, в безупречно ухоженном парке Виллы Боргезе, уже кипела утренняя жизнь. Бегуны в яркой форме, элегантные пожилые дамы с крошечными собачками, молодые мамы с колясками. Воздух, даже через толщу двойного стеклопакета, казался живым, вибрирующим, наполненным обещаниями.
– Доброе утро.
Голос Макса, как всегда ровный и спокойный, прозвучал за её спиной. Он уже был одет в свежеотглаженные светлые льняные брюки и белоснежную рубашку–поло от Loro Piana. Безупречный, сдержанный образ для респектабельного европейского туриста.
– Я заказал завтрак в номер. Омлет со шпинатом для тебя, как ты любишь. Принесут через десять минут. Потом, согласно плану, у нас Колизей. Билеты забронированы на десять тридцать. Выходить нужно ровно в десять, чтобы быть на месте с запасом времени и без спешки.
Он говорил так, будто зачитывал расписание биржевых торгов. В его голосе не было ни капли той неги, того предвкушения, которые так и витали в римском утре. Николь почувствовала, как её хрупкое, только что родившееся воодушевление начинает покрываться тонкой корочкой льда под напором его методичности.
– Макс, а может… – она обернулась к нему, пытаясь вложить в свой голос как можно больше легкости, – может, мы сегодня отменим все планы? Просто выйдем из отеля и пойдем, куда глаза глядят? Заблудимся?
Он посмотрел на нее с тем выражением лица, с каким смотрит на нелогичную деталь в чертеже. Смесь недоумения и профессионального беспокойства.
– “Заблудимся”? Николь, это неконструктивно. Это Рим. Огромный, хаотичный мегаполис. “Заблудиться” здесь – значит потратить драгоценное время на бессмысленное плутание по туристическим ловушкам и небезопасным кварталам. У нас всего одна неделя. Мы должны использовать время эффективно. План – это не тюрьма. План – это инструмент, который позволяет увидеть максимум, испытав при этом минимум стресса и разочарований.
Она промолчала. Как можно было объяснить ему, что она жаждала именно этого – заблудиться, испытать стресс от неизвестности, разочароваться в одном месте и тут же найти что–то восхитительное за углом? Как объяснить, что ей нужна была не эффективность, а жизнь? Спорить было все равно что пытаться объяснить теорию струн человеку, верящему, что земля плоская. Его логика была железной. И удушающей.
Через час они вышли из прохладного, пахнущего лилиями и полиролью холла отеля. Макс, разумеется, уже вызвал такси через приложение, выбрав опцию “бизнес–класс”. К ним бесшумно подкатил черный Mercedes, и водитель в костюме распахнул перед Николь дверь.
– Via dei Fori Imperiali, per favore. Vicino al Colosseo, – четко произнес Макс, садясь рядом.
Машина плавно тронулась, и Николь прижалась к тонированному стеклу. Город за окном медленно менялся. Аристократическая тишина района Париоли, где каждое здание было похоже на неприступную крепость, сменилась гулом и суетой улиц, ведущих к центру. Появились они – скутеры, сотнями, как стайки серебристых рыб, они сновали между машинами, нарушая все мыслимые правила, но подчиняясь какому – то своему, неведомому закону гармонии. Звуки клаксонов, пронзительные трели полицейских сирен, крики уличных торговцев, обрывки громких разговоров – всё это врывалось в герметичный салон автомобиля, несмотря на звукоизоляцию. Дома стали старше, их стены цвета охры, сиены и терракоты были покрыты морщинами трещин и увиты седыми прядями плюща. На крошечных балконах, среди спутниковых тарелок, буйно цвела герань и сушилось на веревках белье – яркие флаги повседневной жизни.
– Какая безвкусица, – прокомментировал Макс, с профессиональным отвращением глядя на здание, фасад которого был выкрашен в кричаще–оранжевый цвет. – Никакого уважения к колористике, никакого единого архитектурного ансамбля. Каждый строит и красит, как ему вздумается. Полный хаос.
“Полный хаос»”, – мысленно повторила Николь, чувствуя, как внутри неё что – то отзывается на это слово с радостью. Для него это был хаос. Для нее – свобода.
И вдруг, в конце широкого проспекта, показался он. Колизей.
У Николь перехватило дыхание. Он был не таким, как на фотографиях. Он был живым. Огромный, грандиозный, израненный временем, но не сломленный. Древний гигант, который видел всё – рождение и смерть империй, триумфы и трагедии, кровь и слезы. Она почувствовала, как по коже побежали мурашки, а к глазам подступили слезы. Это было иррационально, сентиментально, и Макс бы этого точно не понял, но она чувствовала, что прикасается к чему–то большему, чем просто история. К самой вечности.
– Впечатляющая конструкция, – констатировал Макс, с интересом инженера разглядывая арки. – Поразительно, как они добились такой прочности сводов без использования железобетона. Гениальная логистика и расчеты.
Машина остановилась. Как только дверь открылась, Николь окунулась в гущу событий. Жара ударила в лицо, гул многоязычной толпы оглушил, запахи парфюма, сладкой ваты и выхлопных газов смешались в один густой коктейль. Со всех сторон к ним тут же бросились навязчивые продавцы воды, селфи–палок и гиды сомнительного вида. Макс брезгливо поморщился, выставляя перед собой руку, как щит.
– Держись ближе. Идем скорее. У нас электронные билеты, не нужно стоять в этой варварской очереди.
Они действительно, как привилегированные особы, миновали огромную, извивающуюся под палящим солнцем змею из сотен людей. Макс бросил на них короткий, торжествующий взгляд. Он снова победил хаос. Он был эффективен.
Внутри Колизея, где гул толпы становился еще более гулким, Макс достал свой планшет.
– Итак, – начал он свою лекцию, – амфитеатр Флавиев. Строительство начато императором Веспасианом в семьдесят втором году нашей эры. Вмещал, по разным оценкам, от пятидесяти до восьмидесяти тысяч зрителей. Подумать только, как современный стадион… Вот здесь была арена, она была покрыта деревянным настилом и песком. А под ней, – он увеличил схему на экране, – находился гипогей, сложная система туннелей и подъемных механизмов, где держали гладиаторов, диких животных, готовили декорации…
Он говорил правильные, интересные факты, которые можно было прочитать в любом путеводителе. Но его голос, лишенный всякого трепета, превращал чудо инженерной мысли в скучную техническую спецификацию. Николь почти не слышала его. Она пыталась почувствовать это место. Она отходила от него на несколько шагов, закрывала глаза и представляла рев толпы, жаждущей крови, лязг мечей, предсмертные крики людей и животных. Она прикасалась ладонью к древним, теплым, шершавым камням, и ей казалось, что она чувствует их вибрацию, их память. Она смотрела вверх, на пустые глазницы арок, сквозь которые проглядывало безжалостно–синее небо, и видела не просто руины. Она видела скелет великой, жестокой и прекрасной цивилизации.
– Ты меня вообще слушаешь? – Макс тронул её за плечо, выводя из транса. – Я рассказываю про систему велариума. Это был огромный тент из парусины, который натягивали над ареной для защиты от солнца. Управляла им целая команда моряков из императорского флота.
– Да, да, прости, я слушаю, – кивнула она. – Просто… это так… ошеломляет.
– Это просто камни, Ник, – сказал он, смягчившись и приняв её реакцию за сентиментальную женскую слабость. – Гениальное, но всего лишь инженерное сооружение. Не нужно придавать этому излишней мистики.
Они провели в Колизее ровно час пятнадцать минут, как и было запланировано в его расписании. Затем Макс уверенно повел её через дорогу, на Римский Форум. Он шел по древней брусчатке, не глядя по сторонам, а сверяясь с GPS–картой на своем планшете.
– Сейчас мы идем по Священной дороге, Via Sacra. Слева от нас – базилика Максенция, видишь остатки сводов? Справа – круглый храм Ромула…
Николь плелась за ним, как заключенный на прогулке. Жара становилась невыносимой, толпы людей утомляли, а монотонный голос Макса превращал это священное место, сердце величайшей империи, в скучный и пыльный музей под открытым небом. Она чувствовала, как её восторг, её трепет, её предвкушение угасают, вытесняемые усталостью и глухим, бессильным раздражением. Это был не её Рим. Это был Рим Макса – стерильный, каталогизированный, препарированный и лишенный души.
Они остановились у очередной груды мраморных обломков.
– …а вот это, – авторитетно заявил Макс, – остатки храма Весты, где жрицы – весталки веками поддерживали священный огонь, символ нерушимости Рима…
И в этот момент, пока он был поглощен своим планшетом, Николь увидела её. Узкую, неприметную арку в кирпичной стене, ведущую куда–то в сторону от основного, вытоптанного миллионами ног туристического маршрута. Арка была увита плющом, и из неё веяло прохладой и тишиной. Там не было ни одного человека.
Это был инстинкт. Порыв. Она не думала. Она просто шагнула туда, как шагают в спасительную тень.
Она оказалась в крошечном, заросшем дикой травой дворике, скрытом от всего мира. В центре росло кривое, старое оливковое дерево, а в позеленевшей от времени стене журчал маленький, простой фонтанчик с питьевой водой, из тех, что римляне называют “nasoni”. Здесь было невероятно тихо. Шум толпы и голос Макса остались где–то в другой вселенной. Солнце пробивалось сквозь серебристую листву оливы, рисуя на древних камнях дрожащие, причудливые узоры. Пахло влажной землей, мятой и чем–то еще, пряным и горьковатым. Она подошла к фонтанчику, подставила ладони под ледяную, чистую струю, напилась, а потом умыла горящее лицо. Это было похоже на пробуждение. На несколько благословенных мгновений она была одна. Одна в самом сердце Рима. И она была абсолютно, безмятежно счастлива.
– Николь!
Резкий, встревоженный голос Макса, как брошенный камень, разрушил магию.
Он стоял в арке, глядя на неё. На его лице было написано откровенное недовольство, смешанное с облегчением.