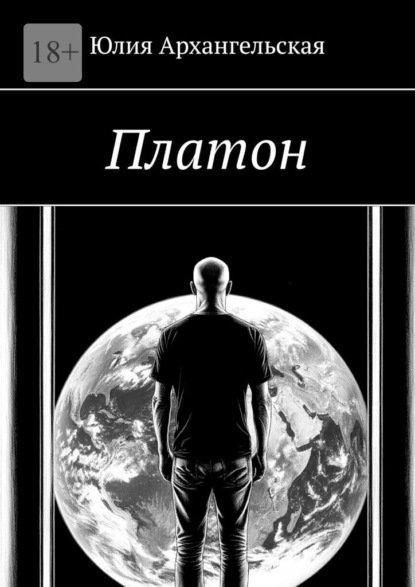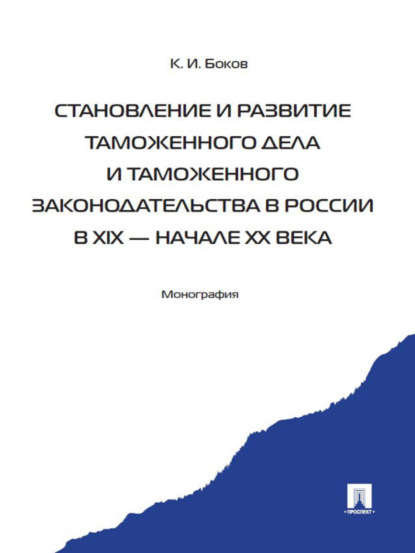- -
- 100%
- +

© Юлия Архангельская, 2025
ISBN 978-5-0065-9350-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Не первая глава
Дорогой Семь, я выполнил вашу просьбу и прилепил к своей истории финал. Плохая новость в том, что я сделал его реалистичным. Хорошая – я все еще жив. Надеюсь, теперь вы признаете, что ваша теория – чушь, а я не тот, кем вы меня вообразили. Перед тем, как отправить рукопись вам, я перечитал ее еще раз. Передо мной оказалась стена текста, ряды букв, черно-белый код, пропускающий сознание по ту сторону листа – в мир, который никто и никогда не увидит моими глазами. Мне захотелось переписать все заново от третьего лица, но я одернул себя, осознав самое важное: я утрачиваю с ним связь, перестаю дорожить переживаниями, забываю, и забываю с наслаждением. Говорят, у человека всего две жизни, и вторая начинается, когда он понимает, что жизнь одна. Вы единственный, кого я могу осчастливить в оставшиеся дни, и если я сделаю это, подарив вам свое сочинение, то тоже буду счастлив.
Душевную обнаженку выложу здесь, в этом письме, ведь не истории, а вам нужно мое признание. Вам любопытно знать, кто я такой и почему во мне теснились желания, столь противные человеческой натуре. Честно говоря, я никогда не был на исповеди и не в курсе, как правильно облегчать душу. Стоит ли сперва излагать факты, например, что меня зовут Платон Орос, что родился я на Крите в семье пресс-атташе, а вырос в Москве, и так далее, чтобы исповеднику было на что опереться, или сходу переходить к грехам? Думаю, если грехи с легкостью отпускают, то причины, приведшие к ним, никого не колышут. Но вы-то не прощать меня собрались, вам интересно все, поэтому расскажу о себе по порядку.
Детство мое прошло на Крите, в маленьком приморском городке. Я был одним из тех детей, кого днем растит улица и море, а по вечерам – бабушки. Родителей видел редко, и каждый их приезд превращался в праздник. Отец привозил книжки и наставлял, а мама плакала и заваливала подарками. На мой седьмой день рождения они сообщили, что их отзывают в Москву. Отец усадил меня за стол и веером выложил фотографии столицы, а мама просто сказала, что очень хочет домой. Она взяла меня за руку и объяснила, что я тоже буду тосковать по дому, но ничто не помешает мне вернуться, если я захочу. Я согласился, решив, что быстренько посмотрю мир и вернусь. Про железный занавес узнал через полгода, сидя на чемодане в прихожей и требуя вернуть меня туда, откуда взяли.
Я был единственным ребенком и ни в чем не нуждался. Мне много давали, не спрашивая, и столько же требовали взамен, не ожидая согласия. По настоянию отца я должен был окончить МГУ, стать журналистом-международником и построить карьеру в Европе. Предопределенность угнетала, и хоть учеба давалась легко, кем бы я ни представлял себя в жизни, любое занятие и тем более карьера казались мне нелепыми. Смотрел на родителей, на их друзей, бывавших у нас в доме, на сверстников, мечтавших стать кем-то и сделать что-то, и не понимал, что я делаю среди них, столь увлеченных и целеустремленных натур.
Медаль и красный диплом. Я сделал все, чтобы не огорчать родителей. Отец с гордостью отнес мои документы в ТАСС и улетел с Ма в очередную командировку. Я проработал ровно два часа. Новости они узнают первыми. Коллеги выразили соболезнования, редактор дал отгул. Я просидел дома несколько месяцев, не зная, куда себя деть, потом сдал квартиру, поехал на вокзал и запрыгнул в первую электричку. Она шла в Тверь. Спонтанный переезд спас меня от удушающей жалости многочисленных друзей семьи и клейма сиротства. В незнакомом городе я стал жить спокойно, размеренно, в бесшумной бессмыслице, не лишенной скрытого очарования.
Жизнь мне никогда не нравилась. Я приберег эту фразу для эпитафии. Кратко и правдиво. Жизнь я любил как особый вид искусства. Да, красиво. Живописно. Местами милен-ко. Но не мое.
Надеюсь, вы успели меня хорошенько узнать, чтобы не считать законченным меланхоликом и нигилистом, который не жил по-настоящему. Я жил как все и даже прослыл весельчаком. Несмотря на тайное желание, жизнь меня баловала. Вы видели мою жену, бывшую жену, и признайте, я ей не пара. Она само совершенство. И это ли не доказательство, что по меркам вселенной я попросту зажрался. У меня было все: семья, работа, я не был богат, но построил дом и выхватил из мира вещей те, что пришлись по вкусу. Не всем дорожил, не все сберег, и сейчас мне не на что жаловаться, но в том-то и парадокс моей натуры, что я не искал ни поводов, ни причин, а лишь подходящее время.
Ироничное и вместе с тем теплое отношение ко всему пришло ко мне рано, а вместе с ним – непокидающее ощущение ожидания подходящего момента, чтобы отсюда смыться. К слову, я не считал его недугом или дефектом. По прошествии лет я понял: все дело было в прощальном взгляде. Именно так я смотрел на жизнь и людей. Каждый раз – как последний, чтобы ухватить суть и запомнить. Запомнить только хорошее, лучшее, что есть в них и вокруг. Думаю, поэтому многие считали меня слишком мягким и наивным.
В пору студенчества был у меня приятель, страдавший депрессией. Однажды он поделился со мной переживаниями и сказал, что подумывает самоубийстве. Ему прописали таблетки, и вскоре он ругал себя за слабость характера и благодарил докторов, которые спасли ему жизнь, такую замечательную и складную во всех отношениях. Я поддерживал его и представлял, что бы было со мной, если бы жизнь приносила боль и мучения. Наверное, я бы тоже пил обезболивающее. Но я не мучился, мне не было больно, я просто жил в мире слишком простом и прозрачном, полном смыслов, созданных не для меня, и продолжал смотреть на него так, как привык: с улыбкой и иронией, скрестив на груди руки.
Подходящие моменты – образ из сказок. Когда нужно, они не подворачивались. Работа, друзья. Там и сям я был нужен, тех и сех не мог подвести и как-то незаметно увяз в рутине, а потом пришла любовь. Первая и единственная. С Верой мы познакомились в библиотеке. Стояли бок о бок и сдавали одинаковые книги, «Энеиду» Вергилия. Заметив это, мы переглянулись.
– Красивый язык, хоть и мертвый, – сказал я, чтобы хоть что-то сказать, потому что она уже скользила по мне взглядом. Одобрила кроссовки, пересчитала дырки на джинсах, подняла бровь, увидев пряжку на ремне в виде мальтийского креста, поджала губы от вида черепа на футболке, мельком взглянула на серьгу и умело скрыла удивление, обнаружив, что волосы, забранные в хвост, были седые и блестели, как начищенное серебро.
– Мертвый? Не драматизируйте, бедный рыцарь, ему еще долго не дадут умереть, – ответила она и улыбнулась. Я хотел пошутить про «Гаудеамус», решив, что она студентка, юная, изящная, в легком платье и туфлях на каблуках, но вовремя заткнулся. В ее зеленых глазах, подчеркнутых тушью и стрелками, читался опыт зрелой женщины и горел огонь, завидев который, и рожденный ползать отращивает крылья. Она призналась, что полюбила латынь в медицинском колледже, а Вергилия взяла, чтобы не отупеть от работы. Слово за слово мы оказались на набережной и гуляли до полуночи, потом стали встречаться. Отношения у нас были ровные, без бурь и всплесков. Ей нравились читари-ботаники, каковым она меня считала, а я упивался ее красотой и удивительной способностью вить из меня веревки. Лет пять жили на два дома и не думали съезжаться. В редких разговорах о семье она отшучивалась, что брак – дело гиблое, он портит фигуру и превращает нимфу в бабу.
Шутки кончились неожиданно. Мы были на свадьбе у друзей, и в разгар веселья она проговорилась, что беременна. Я схватил ее и закружил. Вмиг она стала прекрасней и восхитительней. Слова «выходи за меня» сами сорвались с губ, и она сказала: «Ну ладно». Шумное торжество продолжилось, а я опомнился и напился, ведь мне тоже предстояло долго и счастливо, но я не представлял как. Вернувшись домой, добрался до календаря, переправил даты и поставил крестик на первом ноября 2022 года, чтобы на время забыть о себе, о своих тараканах и прожить двадцать пять лет как суждено – достойно, без ощущения, что сидишь на чемоданах у кассы и каждый день сдаешь билет, чтобы купить другой, на следующий поезд, на который точно опоздаешь по независящим от тебя причинам. Предположил, что за четверть века управлюсь с тем, что обычно сваливается на человека, и освобожусь от обязательств, стану чист, как лист, и отпущу себя на все четыре стороны. Ну а если втянусь и привыкну к роли отца и мужа, то признаю, что жизнь прекрасна и удивительна, а я заблуждался, считая ее пустой тратой времени.
Дальше случилось то, что предполагал: жизнь превратилась в судьбу, и даже не мою собственную. Будто юность была лишь притоком бурной реки. Дело за делом, из кабалы в кабалу, подпрыгивал на порогах, несся в стремнине, пока не оказался в тихой заводи естественного увядания. Вокруг меня разыгрывались разные сценарии, и мой не был уникальным, и я так ясно ощущал это, что иногда становилось тошно. У нас было все для счастья, но я все думал, чего мне не хватает, и никак не мог понять. Веру безумно любил, в сыне души не чаял, работа была не в тягость, и деньги водились, но с каждым днем все чаще меня посещали мысли о крестике в календаре.
Отдушину нашел в книгах: одни читал, а другие писал, развлекал ими семью, друзей и бросал в ящики комода. Чтение и писательство были побегом от реальности. Этого не увидел бы только слепой. Но никто не увидел. Я говорил, это хобби. К нему относились как к странности, присущей многим, не сумевшим раскрыться в работе и не получившим признания в творчестве. Последние девять лет вечера я проводил в кабинете – самой уютной комнате в доме – среди коллекции книг, хранящейся в шкафах под стеклом, за отцовским столом с кожаной столешницей, от которой пахло перчатками. За ним я работал, а писал, лежа на диване, стоявшем посреди кабинета и, по мнению жены, нарушающем законы фэн-шуя. Я уже готов признать, что если бы послушал ее, подвинул диван к стене, лег головой на северо-запад, то, возможно, жизнь моя сложилась бы иначе и я не проснулся бы на нем первого ноября 2022 года в пустом доме наедине с давним намерением.
Искренне ваш, Платон.
09.06.2023 года.
Первая глава
Жирный крестик в календаре напомнил, что мне исполнилось пятьдесят. Я ждал этот день полжизни, поэтому давно спланировал до мелочей и точно знал, с кем встречусь, с кем отпраздную и каким будет мой последний вечер. Еще на грани пробуждения я испытывал смешанные чувства радости и страха. Час пробил. Предвкушение свободы должно было развеять душевные сомнения, но страх нарастал. Яркий, жгучий, животный, первобытный. И вдруг я понял, что боюсь. Боюсь себя. Мое отсроченное решение зазвучало приговором, который я должен был привести в исполнение, а впереди зияла пустота. Пустота, в которой не наступит второе ноября и третье и больше не случится ничего. В моем сюжете все обрывалось первого. Пятясь в душе от самого себя, я стал думать, что проснулся слишком рано, что стоило насладиться последним сном, поспать еще, поваляться, никуда не торопиться хотя бы сегодня.
За окнами густела ночь, уличный фонарь боролся с туманом, швырял на стены призрачные тени и заливал рабочий стол молочным светом. Я укутался в одеяло, поджал ноги и уткнулся лбом в холодную кожу дивана. На руке завибрировали часы – будильник, установленный на шесть утра, с надписью: «Вперед на рудники». Я отключил его, ведь накануне уволился, а сбросить настройку забыл. В полном смятении встал и пошел на кухню, вниз, варить кофе, по пути включая свет. В пустом доме каждый шаг сопровождал скрип паркета и ступеней, поэтому я побежал. Щелчок электроподжига, шипение газа, бряцание упавшей ложки, хлопок крышки банки с кофе и стук дверки шкафа – все привычные звуки раздражали. Я распахнул окно, чтобы впустить шум улицы: ветер, топот прохожих, рокот прогреваемых машин. Кофе по привычке пил с сигаретой, присев на подоконник и глядя, как соседи из коттеджа напротив уезжают на работу, ругаясь и сто раз проверяя, все ли выключили и заперта ли дверь. Налаявшись, они вышли на дорогу к заведенной машине, увидели меня в окне и помахали, я помахал им в ответ.
Налив вторую чашку, я открыл ноутбук и стал кропотливо перебирать почту с заурядными поздравлениями от друзей и коллег, ныне обитавших в интернете. Почти машинально я отправлял им в ответ душевное спасибо и лайкал открытки на своих страницах в соцсетях. От монотонной работы сердце и ум пришли в равновесие, и я сделал следующий шаг – открыл Word и приготовился писать прощальное письмо. Я знал, что раньше срока не вырвусь, и готов был остаться, будь у меня незавершенные дела, ведь я довожу начатое до конца и ухожу, когда никто не смотрит и не тянет ко мне руки. В последнем я мог быть уверен. Год, как я жил один и даже кота не завел.
Казалось, все пойдет как по маслу и последнее слово будет восхитительным. Но не тут-то было. Так и эдак я прикидывал, с чего начать, и никак не мог сосредоточиться. У меня не осталось ничего второстепенного: ни людей, ни вещей – все лишнее давно было выброшено за борт. Думая об оставшихся, я курил, смотрел на пустой экран и прикидывал, кому адресовать послание.
Допустим, я написал бы его Вере, одной из замечательных женщин на свете. Без преувеличения. Когда мы поженились, я понял, что любовь бывает без страданий. Конечно, о ней не напишут в книгах, потому что это нормально, а все нормальное скучно. Но нам скучно не было, пока она не сверилась с собственным календарем, где тоже, видимо, стоял крестик, и не уехала жить в Испанию. Написать ей – идея на миллион. Это была бы первая предсмертная записка в истории, накатанная в соавторстве. Представил, как она читает, не веря глазам, перечитывает, берет ручку и размашисто пишет: «Ну и дурак!»
Адресовать письмо Пашке у меня не хватало духу. Он человек с устоявшимися взглядами, довольно жесткий, и способен принять мое решение без лишнего драматизма, чего не скажешь о других. Но, конечно, есть одно но… Записки друзьям и женщинам пишутся в свободной форме, легко и непринужденно. Речь в них идет в основном о любви и дружбе, для которых смерть не преграда, а закончить их можно пожеланием встречи в новой жизни, при других, более веселых обстоятельствах. Письмо сыну – не записка, а монументальный труд всей жизни. Или я ни черта в них не смыслю.
Близких друзей у меня не осталось. Последний, Антон, умер от ковида год назад. Он работал со мной в отделе новостей, и десять лет мы сидели напротив, вместе ходили обедать в кофейню на углу, а по выходным, бывало, он выбирался ко мне на шашлыки. Мы могли говорить часами о чем угодно, кроме работы. Лежали на креслах в саду, пили вино, и это было прекрасно. С ним бы я попрощался. Но, к несчастью, он меня опередил.
Можно было уйти по-английски, но меня самого раздражает в людях такая привычка. Я считаю ее признаком невоспитанности. Нужно уметь говорить до свидания даже тем, к кому не собираешься возвращаться. А я как раз пытался покинуть мир без лишней суеты, просто сказав напоследок: «Всем спасибо, до свидания». Вот оно! Идеальное послание далеко не идеального человека, который мог, но не стал утруждаться.
«Всем спасибо, до свидания».
Впервые в жизни я остался доволен своим перфекционизмом. Однако перед тем, как откланяться, я хотел исполнить свое последнее желание – купить шляпу. Не абы какую, а английскую, созданную для носки в безветренную погоду и элегантного жеста приветствия. Несмотря на контекст, я по-прежнему считал это хорошей идеей. Поднялся в кабинет, распечатал записку и оставил ее на столе, как новый роман в завершенном виде. Даже если бы ее нашли, вряд ли прониклись бы смыслом и бросились на поиски. В конце концов, это просто слова на бумаге, пока к ним не прилагается все объясняющее тело в шляпе.
Привыкая к онлайн-магазинам, я все же не мог расстаться с привычкой ходить за покупками в торговые центры. Они как неомузеи еды и вещей. Яркое, скромное, пестрое, громкое собрано в одном месте и распределено по секторам, как гласит карта при входе. Кто бы ее читал. Потоки людей хаотично движутся, захлестывая распродажи, пульсируют под музыку, которую не замечают. Она задает ритм, разгоняет кровь, подстегивает желание купить то и это и унести это и то к себе. Мой сын, который со своими соплеменниками бьется над маркетинговыми технологиями, говорит, что я и мне подобные, замечающие музыку и то, что не должны замечать, просто занозы в заднице. Но и нас рано или поздно наука приравняет к общему знаменателю. Не знаю, в кого он такой затейник. Я прям чувствую себя двигателем научного прогресса, когда в его приезды отлучаюсь в супермаркет за коробкой молока и возвращаюсь с коробкой молока под скрежет зубовный. Сынуля думает. Орешки в кармане не в счет.
Я пришел к открытию. До музыки. До толп. Витрины зажигались одна за другой, как окна домов. На фуд-корте редким прохожим предлагали завтраки. Заработал дохлый фонтан. На перекрестках задвигались громоздкие фигуры драконов. Они как умели завлекали посетителей в кинотеатр на премьеру апокалипсиса со своим участием. Поплутав, я нашел наглухо закрытую шляпочную и устроился на лавочке под очередной фантастической мордой. Дракон угрожающе наклонялся, открывал пасть, из пасти выезжал мигающий смертоносный огонь, а сама атака сопровождалась жутким скрипом суставов и противным: «Э-э-э…». Испепелив все живое, он заваливался назад, чтобы снова напасть с неиссякаемым напором и безразличием в пластмассовых глазах. Дракон убивал бы меня и убивал, если бы не пришел продавец. Пухлый коротышка в шляпе и светлом плаще нараспашку поверх черного костюма-тройки повозился с замком у пола и отработанным пинком отправил трещотку жалюзи, закрывавшую вход, куда-то наверх. Нашарил выключатель, но витрина не вспыхнула, не обдала жаром, подобно соседним, и надпись: «Дело в шляпе» на белом фоне и вешалка с одинокой шляпой в конце предложения остались пребывать в аскетичной скромности, без иллюминационных излишеств. В самом магазине стало чуть светлее, чем хоть глаз выколи.
«Модные бутики, чего от них ждать», – подумал я, дал ему время раздеться и зашел.
Мы поздоровались, молча кивнув друг другу, и я отправился искать шляпу. По обе стороны от входа и по левой стене высились солидные полки вроде книжных. Шляпы там висели на высоких подставках в окружении софитов. Изогнутый деревянный прилавок, высокий, по виду напоминавший барную стойку, находился справа, а над ним на полках из стекла красовались наидрагоценнейшие шляпы. У дальней стены, задрапированной темными шторами, стояли венские кресла и столик в окружении трех элегантных манекенов. В их позах читалось: «Господа, что сидели здесь, отлучились по важному делу. Когда вернутся, мы продолжим». И дверь. По диагонали от входа в темной нише я заметил дверь – намного выше и шире той, в которую вошел.
Стою, глаза разбегаются. Спиной чувствую, что продавец смотрит на меня, и это раздражает. На самом деле шляп было многовато для определения одной методом тыка или исключения. К тому же они начинали казаться одинаковыми. А еще сверлящий взгляд на спине… Смирившись с тем, что ничего в них не смыслю, я повернулся. Продавец с интересом разглядывал меня, чему-то улыбаясь.
– Я не знаю, где находится шляпа, которая мне нужна, – сказал я и подернул плечом.
– Понимаю. Пока не знаешь где, это может оказаться где угодно, – ответил он серьезно, немного растягивая слова.
– Может, поможете мне ее найти? – спросил я.
– Конечно, помогу. Вспомните, где вы видели ее в последний раз, – мгновенно отозвался он.
– Вы издеваетесь? – возмутился я.
– Нет. А вы?
Это «а вы?» он умудрился проговорить, зевая, и достал пилку для ногтей.
На секунду я представил ситуацию со стороны и чуть не рассмеялся. Потом произнес по слогам:
– Я при-шел ку-пить шля-пу.
– Замечательно. Так бы сразу и сказали. Какую хотите? – затараторил он с дежурной улыбкой и напускной заинтересованностью. Пилка отправилась под прилавок, а он застыл с распростертыми объятиями, готовый поймать в них любое желание.
– Вашу.
Определенно, выбор за меня сделало подсознание. Толком не успел сообразить, как слово «вашу» грохнулось на прилавок. На нем была новая шляпа – не лучше, не хуже, но намного живее тех, что стояли на полках, как урны в колумбарии, или покоились на головах манекенов. Продавец удивился. Снял шляпу, вынул торчащую из-под канта бирку, посмотрел на нее, аккуратно вложил обратно, бережно водрузил шляпу на место и снова уставился на меня. Для такого крупного тела лицо у него было весьма привлекательным, почти изящным. Первое, на что я обратил внимание, – его выразительные темные глаза, возможно, карие, но в этом сумраке сказал бы, что черные. Второе – высокий лоб без залысин и тонкие губы, которые, смыкаясь или растягиваясь в улыбке, исчезали с лица.
– Она на мне, потому что не продается. Это брак. Ее недочернили. Вас не смущает, что она синяя? То есть она немного не черная и очень синяя, темно-синяя, так сказать, – доходчиво пояснил он и поднес шляпу к настольной лампе у кассы, чтобы я мог убедиться.
Лампа идеально вписывалась в мрачноватый интерьер. Видавшую виды латунную ножку венчал приплюснутый стеклянный абажур, матово-белый снизу, темно-зеленый сбоку и неопределимого оттенка серого сверху. Рядом с лампой все становилось зеленым, включая синюю шляпу.
– И все-таки она синяя, – не сдавался продавец, утягивая зеленую шляпу за собой, – пойдемте к свету, и я докажу. Он резко оттолкнулся от прилавка и поплыл в сторону двери.
«Что за…» – подумал я и вытянул шею, чтобы посмотреть, как это у него получается. Тут он оттолкнулся от стеклянной полки и продолжил движение, растеряв волшебство и усердно разгребая руками воздух.
«Чудак на чем-то катается», – дошло до меня. Я почти повис на локтях и увидел, что он едет на барном стуле. Обычном одноногом барном стуле, только с колесиками.
– Не стоит. Я куплю ее без доказательств. К тому же у меня есть синий костюм, – я оттопырил полы своего пиджака.
Он уже добрался до конца прилавка, навалился на него, подпер голову руками, будто приготовился слушать длинную-предлинную историю, и спросил учтиво:
– Вы школьный учитель, да?
– Слава богу, нет. А вы?
– А я да.
Таким тоном отвечают, что сейчас половина десятого. Мне стало интересно, и я спросил:
– А что вы делаете здесь?
– Шляпы продаю.
– Не в том смысле, – сказал я.
– А у этого занятия есть другой смысл? – спросил он и расплылся в улыбке.
Я был не готов к общению с людьми. Максимум, который себе представлял, – зашел, купил, вышел. И все. Выкрутился хуже некуда:
– Я хотел спросить, а как же дети?
– Ах, дети… – продолжил он мечтательно. – Дети не перестают рождаться, и новые учителя, кстати, тоже. Но кто-то должен продавать шляпы.
– Звучит трагично.
– Я думал, вы скажете – цинично.
– По-моему, трагично.
Одна фраза, одна эмоция, один взгляд – так в природе между людьми происходит процесс мгновенного узнавания. Ты еще не знаешь, что это за человек, а уже стоишь перед ним как вкопанный. С ним иногда происходит то же самое. Узнать же мы можем только тех, кого отчасти знаем, – отражение самих себя и родственную душу, что в принципе одно и то же. Самое интересное выпадает на первые минуты общения, пока вы не начали внутреннюю интеллектуальную игру «Найди десять отличий».
– Ладно, зато честно. В общем, однажды я ясно понял, что хочу продавать шляпы, – сказал продавец. – А вы чего хотите?
– Я бы хотел купить шляпу, – ответил я.
– А если честно? – спросил он шепотом, наклонил голову набок и подставил ухо.
– Рипнуться, – неожиданно для себя ответил я, но быстро смекнул, что, если что-то пойдет не так, я смогу обратить все в шутку.
– Противное слово. А когда, если не секрет? – спросил он серьезно.
– Сегодня, – ответил я.
– И зачем вам шляпа? – искренне удивился он.
– Это мое последнее желание, – сказал я.
– Вы хотите сказать, что на бракованной шляпе, – он покрутил ее перед собой, – ваши желания закончились?
– Именно так и сказал, – подтвердил я.
– Вы не сумасшедший? – хмыкнул он. – Не то чтобы я сомневался, просто любопытно.
– Кто знает… – ответил я.
– Итак, вы не сумасшедший, – он стал по очереди загибать пальцы. – По крайней мере, на вид. И одержимы идеей, диаметрально противоположной моей. Вы хотите умереть – я не хочу, наотрез отказываюсь, – загнув пятый, он шлепнул ладонью по прилавку.
– Рад за вас. Может, теперь продадите? Со скидкой, по специальной цене, по акции или как у вас принято, – разгорячился я.
– Видите ли, у меня тоже осталось одно желание, – продолжил он, не обращая внимания на мои слова. – Хотите знать какое?
– Догадываюсь, – ответил я.
– Ну, поразите меня, – сказал он, отклонившись назад и заранее торжествуя.