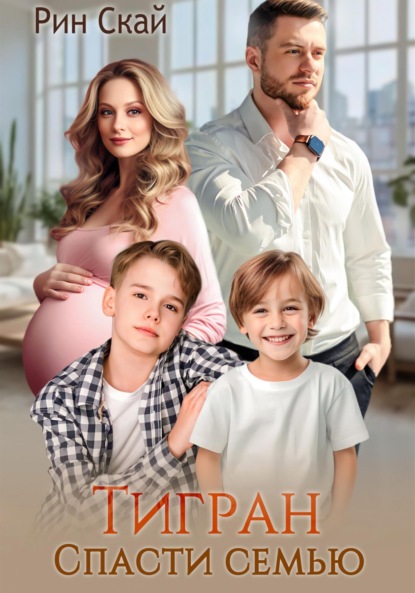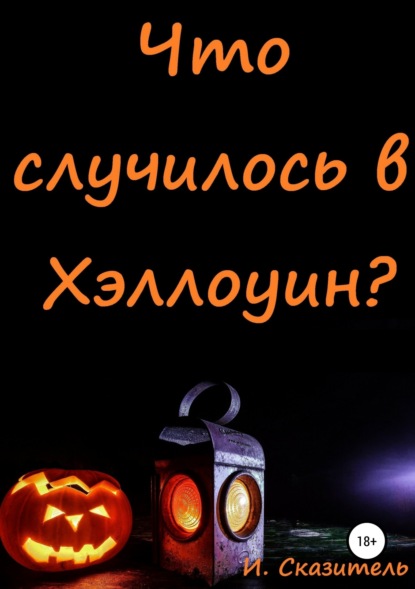Дорога жизни
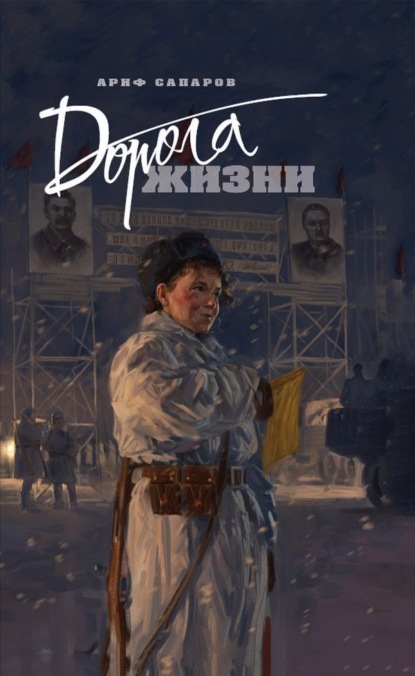
- -
- 100%
- +
Перед ледоставом Ладога жила напряженно, в бессонных ночах и великих деяниях. Эпроновские водолазы по многу раз за сутки опускались в студеную воду, чтобы достать с озерного дна груз разбомбленных фашистами судов, – это принесло ленинградцам еще две тысячи тонн пшеницы, правда, уже успевшей прорасти. Фронтовые связисты торопились проложить подводный кабель, чтобы Ленинград получил на зиму надежную телефонную связь с Москвой.
В один из этих дней трагически погиб пароход «Конструктор». Судно вышло из Осиновца с рабочими, уезжавшими на тыловые заводы. Немецкие летчики видели, что перед ними пароход с невооруженными людьми, что военных грузов на нем нет, и… забросали его бомбами.
Морозы становились все крепче. Последние баржи едва добрались до причалов – судоходство закончилось. Теперь сквозь кольцо блокады могли прорываться лишь самолеты: иного пути, кроме воздушного, не осталось.
Блокада все туже сжимала Ленинград в своих костлявых объятиях. Начал давать перебои трамвай, – не хватало электроэнергии. Выходили из строя водопроводные магистрали. Иссякали запасы угля, нефти, дров.
Ленинград переживал черные дни.

Начальник Ладожской дороги генерал-майор Шилов и военком дороги бригадной комиссар Шикин на трассе.
Глава третья
1«В школе холодина жуткая, руки мерзнут. У нас сеет пока есть, а у других ребят выключили. Да и мы часто сидим со свечкой. Придешь домой – холодно, есть охота, ну и ждешь, пока мама разрешит плиту затопить. Прямо не плита, а благодетельница блокадная!»
В ночь на 15 ноября резко похолодало. Зимняя погода установилась раньше срока.
18 ноября на западный берег Ладожского озера вышел отряд пеших разведчиков, вооруженных не совсем обычным для военного времени образом: помимо винтовки и связки ручных гранат, висевшей за поясом, каждый боец держал в руке длинный посох с заостренным металлическим наконечником, какими привыкли пользоваться спортсмены-альпинисты.
Двое бойцов, впрягшись в пулеметные лямки, тащили волоком широкие крестьянские розвальни. На санях лежал запас осиновых вешек, виднелись толстые мотки веревки, ручной пулемет, полевая рация и даже пробковые спасательные круги с отчетливой голубой надписью – «ЦПКиО имени С. М. Кирова».
Из прибрежной деревни Коккорево отряд выступил еще затемно, но дальше крутого спуска на озеро не двинулся, укрывшись в густых зарослях прибрежного камыша.
Плотно прижавшись друг к другу, разведчики ждали рассвета. В темноте изредка вспыхивал желтый глазок самокрутки. По правому краю горизонта взлетали в небо немецкие осветительные ракеты.
Невесело было на душе этих людей. Кто знает, что ждет их сегодня? Добро, если все будет удачно, если сумеют они добраться до цели и придут назад с радостной вестью. Тогда ничего не страшно. А вдруг провал? Ведь не простая разведка поручена отряду в это хмурое утро, не за очередным «языком» посланы они на Ладожское озеро, а ради святого дела, важней которого сейчас ничего нет…
В восьмом часу начало светать. Над ледяной равниной зимней Ладоги, над прибрежными лесами медленно таяла ночная темень. Небо было в низко нависших тучах, серое и непогожее. Ветер сердито шумел в зарослях камыша, звонко хлопая обледеневшими тростинками.
Раньше всех поднялся воентехник Соколов. Щупленький с виду, он сразу обращал на себя внимание решительным выражением своего худощавого лица. Порывистые движения и очень уж светлая, простодушная улыбка, изредка мелькавшая на его губах, выдавали в нем молодого человека, почти юношу. Как и другие разведчики, Соколов был в новеньком, остро пахнувшем овчиной полушубке.
Сойдя на озерную гладь, командир отряда потоптался, несколько раз даже подпрыгнул, испытывая прочность льда, а затем скомандовал ломким от напряжения голосом:
– Ста-а-новись!
Разведчики начали поспешно выходить из камыша и строиться в шеренгу.
Перед выходом отряда Соколов лично отбирал самых крепких и выносливых бойцов батальона. Многим, кто просился в поход, пришлось ответить неумолимым отказом. Глянув теперь на впалые щеки стоявших перед ним людей, на зябко поднятые плечи и тонкие исхудавшие руки, командир отряда не смог удержаться от вздоха. Неважно выглядят даже самые крепкие, худо им придется на озере в такую погоду.
– Куда мы идем и для чего, вы все знаете не хуже меня, – сказал Соколов. – В Ленинграде народ голодает, а на том берегу целые горы хлеба. Давайте помнить об этом, товарищи. Помнить, что бы ни случилось. Если мы вернемся с пустыми руками, ленинградцы погибнут. Наши матери, наши сестренки и братишки, раненые в госпиталях, бойцы на переднем крае – все без исключения погибнут… Сейчас дорог каждый день…
Соколов вздохнул еще раз и замолк. По-видимому, он понял, что добровольцев, идущих с ним сегодня, совсем не нужно агитировать. Разве сами они не бедствуют на скудном фронтовом пайке? Разве не лучшие это люди батальона?
Вот стоит на правом фланге, тяжело опершись на посох, Никита Иванович Астахов, питерский красногвардеец, участник штурма Зимнего дворца, уважаемый всеми парторг роты. У Никиты Ивановича в городе жена с двумя дочками-близнецами, до войны он сам работал цеховым агитатором на Кировском заводе. Надо ли уговаривать Астахова? Вот, прищурив глаза, пристально рассматривает темный вражеский берег старшина Максим Емельянович Твердохлеб. Он первым попросился в разведку, хотя и месяца не минуло с того дня, когда его выписали из батальона выздоравливающих. Колхозный шофер с Днепропетровщины, водитель боевого танка Твердохлеб уже побывал в госпитале, горел в подбитой машине под Лугой, вывел друзей-однополчан из окружения. И не просто вывел, а еще приволок портфель с важными штабными документами, взятый у подстреленного фашистского генерала. Такому тоже ничего разъяснять не нужно.
– Надеть маскировочные халаты! – распорядился командир отряда. – Пойдем в затылок, интервал не меньше десяти метров!
Рядом с Соколовым стоял Никанорыч, бригадир коккоревского рыболовецкого колхоза. Когда в деревне стало известно, что отряд нуждается в надежном проводнике, Никанорыч сам предложил свои услуги.
– Пора трогаться? – Соколов беспокойно глянул на часы: – Скоро восемь, светлого времени у нас немного…
Проводник молча кивнул головой. Растянувшись в цепочку, бойцы начали выходить на озерный лед.
До старинного рыбачьего села Кобона, привольно раскинувшегося на противоположном берегу Ладоги, насчитывалось всего тридцать километров. Расстояние не ахти какое значительное, и, если бы не бесчисленные опасности, отряд Соколова мог бы еще засветло выполнить боевой приказ.
Опасностей этих оказалось даже больше, чем ожидали разведчики.
2«Нужна теплая комната для подготовки домашних заданий. Комнаты такой в школе нет. Эх, холод, холод, как ты мешаешь жить и работать!»
Раннее похолодание спутало планы руководителей ленинградской обороны.
Погода сработала на руку фашистам. Бомбардировщики фон Лееба лезли из кожи вон, пытаясь сорвать судоходство по Ладоге, и ничего не могли поделать. Преждевременным ноябрьским морозам это удалось без всяких усилий. Навигацию поневоле пришлось закрыть на три недели раньше намеченного срока.
Блокированный город вновь остался без подвоза. Единственную тоненькую ниточку, которая связывала его со страной, оборвал ледостав.
Имелся, правда, еще воздушный путь. Очень сомнительный, если учесть тогдашнее превосходство врага в авиации, требующий немалых жертв, но все же путь! Было бы ошибкой не использовать эту возможность.
Транспортные самолеты начали свою работу на следующий день после окончания навигации. Из Новой Ладоги в Ленинград отправляли мясо, сгущенное молоко, консервы, яичный порошок и другие высококалорийные продукты. Разгрузившись, самолеты брали в обратный рейс пассажиров.
Воздушные перевозки всполошили немецкое командование. Истребители врага принялись сторожить небо над Ладогой подобно ценным псам. Прикрывая друг друга пулеметным огнем, тяжелые ЛИ–2 ходили девятками. Почти всегда их сопровождал эскорт наших ястребков. И, несмотря на эти меры предосторожности, транспортная авиация несла большие потери.
Всего сто тонн продовольствия в сутки мог дать воздушный путь. Ничтожно мало в сравнении с потребностями города и фронта!
Положение в Ленинграде резко ухудшалось.
Голодная дистрофия начала валить людей. Слабели мышцы, тускнели глаза, свинцовой тяжестью наливались плечи.
Встал трамвай – на работу шли пешком. Отказал водопровод – воду надо было добывать в прорубях. День ото дня свирепела проклятая стужа. На улицах города все чаще слышался заунывный скрип полозьев. В самодельных гробах, а то и просто завернутыми в простыни везли на кладбище мертвецов.
Лютые холода и голодный мор, бомбежки и обстрелы, все мыслимые и немыслимые беды обрушились разом на жителей города, заставляя их переносить неописуемые страдания.
Как помочь Ленинграду?
Тысячи советских патриотов думали о том, как выручить, как спасти от смерти и позора великий город Октября. Думали с душевной болью, с желанием сделать все, что в силах человеческих, лишь бы не допустить падения Ленинграда.
Каких только проектов не присылали тогда в Смольный, где разместился штаб Ленинградского фронта! Пусть иные из них казались фантастическими – вроде предложения в срочном порядке прорыть тоннель сквозь кольцо блокады, – все равно автора ми руководило горячее стремление облегчить судьбу ленинградцев.
Наиболее действенной помощью осажденному городу был бы, разумеется, прорыв блокады. К сожалению, для столь серьезной операции не хватало сил. Еще очень далеко было тогда до удачливой поры праздничных салютов и блистательных побед, – страна переживала лихую годину военных поражений.
В те ноябрьские дни родилась идея постройки ледовой автомобильной трассы через Ладожское озеро, или «дороги жизни», как назвали ее благодарные ленинградцы.
Едва ли можно определить, кому первому пришел в голову этот удивительный замысел. Идея «дороги жизни» родилась в массах, став по-настоящему коллективной. Подсказала ее нужда, это был единственно правильный и практически осуществимый выход из бедственного положения, в котором очутился город Ленина.
«Дорога жизни» была задумана смело, с революционным размахом и дерзновением. Ни масштабы этого предприятия, ни чрезвычайная срочность, с какой пришлось действовать, ни ужасающие затруднения, вставшие во весь свой рост перед организаторами дороги, не имели равных в мировой истории.
Трасса спасения состояла из трех основных участков, как бы соперничавших друг с другом в разнообразии трудностей и преград.
Беря начало в самом Ленинграде, дорога должна была идти старинным большаком либо Ириновской железно дорожной веткой до берега Ладожского озера, где выходила на лед близ мыса Осиновец. Далее лежала самая опасная и неизведанная часть пути – тридцатикилометровый ледовый участок, проходящий к тому же на виду у вражеских позиций. В селе Кобона на восточном берегу Ладоги дорога вновь становилась на грунт. И тут начинался третий участок – к далекой железнодорожной станции Подборовье, по сплошной целине и бездорожью. После падения Тихвина, когда врагу удалось перерезать линию Вологда – Волховстрой, эта захолустная станция сделалась главной базой снабжения Ленинграда.
Такой выглядела «дорога жизни» в проекте. Длина маршрута составляла триста восемь километров. Из них лишь одна пятая пути приходилась на более или менее благоустроенное шоссе Ленинград – Ладожское озеро. Всю остальную трассу пришлось создавать заново.
Суровая ленинградская действительность требовала энергичных и незамедлительных действий. 13 ноября Военный совет фронта был вынужден снова сократить хлебные нормы населению города и бойцам переднего края обороны. Однако и эти – в который уж раз сокращенные – нормы висели на волоске.
Голод заставлял торопиться.
Еще 8 ноября, за неделю до конца ладожской навигации, был отдан приказ о строительстве ледовой трассы.
В болотах и низинах восточного побережья Ладоги, среди дремучих лесных чащоб и нехоженых буераков за несколько дней возникла прифронтовая магистраль, пригодная для автомобильного движения. Она соединила Кобону с далеким Подборовьем.
Сооружение этой дороги Военный совет фронта объявил сверхскоростной стройкой. Бок о бок с армейскими саперами трудились здесь тысячи колхозников, вышедших на стройку из окрестных деревень. Они рубили лес, прокладывая автомобильную трассу по кратчайшей прямой, настилали бревенчатые гати через заболоченные незамерзающие участки, подвозили щебенку и песок. По ночам строители магистрали работали при свете многочисленных костров, а для маскировки метрах в двухстах раскладывали еще одну линию таких же костров. Ночные самолеты врага нередко бомбили эту фальшивую линию огней.
На западном берегу срочно приводился в порядок большак, ведущий к Ладожскому озеру. И здесь помочь военным дорожникам вызвались десятки добровольческих бригад с ленинградских фабрик и заводов.
Но решающим был, конечно, ледовый участок будущей «дороги жизни». Все зависело от этих тридцати километров пути по ладожскому льду. Продовольствие и боеприпасы, сколько бы ни накопить их в складских штабелях на восточном берегу, ничем не могли облегчить положения ленинградцев, – они становились реальными ценностями, только попав на западный берег.
Ледовый участок дороги, «ледянка», как называли его на Ладоге, длительное время оставался головоломкой, над разрешением которой бились ученые и практики. Это была загадка совсем особого рода, напоминающая уравнение с множеством неизвестных.
Сама по себе ледяная дорога – отнюдь не новшество, особенно для северных районов нашей страны. Вся беда заключалась в том, что любые примеры устройства подобных дорог, а их сколько угодно как в отечественной, так и в зарубежной практике, решительно не соответствовали ладожским условиям.
Двадцать зим подряд существовали подобные железнодорожные переправы через Волгу близ Свияжска. Для полуторакилометровых свияжских переправ специально наращивался лед, а затем в целях ослабления нагрузки на ледовую поверхность настилались заранее подготовленные шпалы. Лишь после всех этих приготовлений вагоны с грузом переправляли на противоположный берег реки, да и то по одному, с длительными паузами.
В таком же примерно духе была организована и железнодорожная переправа на реке Коле в первую мировую войну, когда строилась железная дорога на Мурманск. Возили по ней строительные материалы.
Короче говоря, все технические описания, сохранившиеся от прошлого, в данном случае оказались бесполезными. Строили эти дороги, как правило, не торопясь, на короткие расстояния, в спокойных, мирных условиях. Некуда было спешить, на все хватало времени: и лед наращивать до необходимой толщины, дожидаясь морозных ночей, и шпалы заготовлять. А на Ладожском озере требовалось проложить тридцатикилометровую ледянку в невиданно сжатый срок. И не обычную ледянку, а непременно рассчитанную на усиленное круглосуточное движение автотранспорта. Вдобавок ко всему, будущая дорога неизбежно должна была проходить в зоне досягаемости вражеского артиллерийского огня.
Полнейшая неясность царила в столь важном вопросе, как грузоподъемность льда. Выяснилось, что на сей счет в технических справочниках благополучно уживаются самые противоречивые мнения. Одни специалисты утверждали, что для трехтонного грузовика вполне достаточно, если толщина ледяного покрова достигнет пятнадцати сантиметров, другие увеличивали ее до двадцати, а третьи, по-видимому, наиболее осторожные, – до тридцати сантиметров. Вот тут и разберись!
Следовало также подумать о предельных нагрузках, о смене грузовых трасс. Если усталость металла доставляет столько беспокойства конструкторам и изобретателям, то тем паче надо было опасаться возможных последствий усталости льда. Ведь не одиночные машины предполагалось пропускать по «дороге жизни», а нескончаемые колонны. Предельную нагрузку следовало рассчитать заранее.
Зимний режим Ладожского озера был плохо изучен. Скудные сведения, которые имелись в распоряжении организаторов ледовой дороги, не сулили ничего отрадного. Эти сведения предупреждали, что ладожский лед крайне капризен и ненадежен даже в сильные морозы, что нужно подготовиться ко многим неожиданностям.
Одной из каверзных особенностей зимней Ладоги были, например, трещины льда. Появляются эти трещины каждую зиму, причем всегда в разных местах, а ширина их достигает иной раз трех метров. Никто не мог объяснить причины этого загадочного явления – оставалось лишь строить догадки.
Известно было также, что на озере, и в особенности в мелководной Шлиссельбургской губе, происходит торошение льда. Через торосы, представляющие собой беспорядочные нагромождения льдин, ни пройти, ни проехать.
Серьезной опасностью были промоины. Запорошенные снегом, они могли стать ловушками для шоферов. Достаточно вовремя не заметить, такой ловушки, как мгновенно очутишься на дне озера вместе с машиной.
Расспросы местных жителей принесли мало пользы. Никогда прежде на Ладожском озере не устраивалось сколько-нибудь крупных перевозок по льду. Рыбацкий зимник устанавливался только после крещенских морозов. Ездили по нему на лошадях, да и то с опаской.
Жуткие поверья о сгинувших без вести путниках, о бездонных ямах и предательских теплынь-ручьях, подстерегающих всякого, кто рискнет выйти на замерзшее озеро, рассказывались в прибрежных деревнях. Действительные факты переплелись в них с легендами, и отделить правду от выдумки было совсем не просто. Одно оставалось несомненным: у Ладоги и в зимние месяцы своенравный характер, резко выделяющий ее среди других озер.
Впрочем, и трещины, и торосы, и коварные промоины, как ни опасны они для автотранспорта, выглядели сущей безделицей по сравнению с основной проблемой, которая волновала в те дни всех.
Сроки – вот что было решающим. В конце концов, приноровиться можно к любым особенностям озера. Лишь бы оно скорей замерзало, лишь бы набрал силу молодой озерный лед.
Средний срок окончания ладожского ледостава приходился, по данным метеослужбы, на 13–15 декабря. Стало быть, массовые перевозки продовольствия и боеприпасов могли начаться только через месяц.
Это было невыносимо – ждать целый месяц! Ждать, когда хлеба в городе осталось совсем мало, когда обстановка близка к катастрофе и каждый день уносит все новые и новые жертвы голодной дистрофии.
3«Ведь мы же комсомольцы! Мы должны, можем и будем работать. Мы не имеем права терять учебный год, наоборот, мы должны и другим помочь закончить его успешно».
К счастью, ждать пришлось гораздо меньше.
Ноябрьские холода заставили свернуть навигацию раньше времени. Но нет худа без добра: холода, кстати, и помогли, вызвав ладожский ледостав раньше обычного срока.
Ход ледостава на Ладожском озере в эти дни беспокоил руководителей обороны больше всего. Ежедневно Военному совету докладывали прогнозы погоды, метеосводки, данные измерений толщины льда. Библиографы Публичной библиотеки за одну ночь выполнили срочный фронтовой заказ: подобрать всю литературу, в которой хоть что-нибудь говорится о Ладоге.
Озеро постепенно замерзало. К середине ноября уже и на горизонте нельзя было заметить темного среза открытой воды.
Военный совет приказал организовать тщательную аэрофотосъемку. Самолеты-разведчики несколько раз прошли вдоль предполагаемой трассы.
Вся Ладога была затянута ледяным покровом. Только возле балки Астречье летчики сфотографировали крупную майну-полынью, уходившую на север длинным подковообразным полем. По рассказам местных жителей выходило, что подобные незамерзающие майны обычны на Ладожском озере. Бывают зимы, когда они держатся по нескольку месяцев подряд, преграждая путь к восточному берегу.
Повторные аэрофотосъемки рассеяли опасение: майна возле Астречья сокращалась в размерах. После этого наступила очередь пешей разведки. Проверить прочность ледяного покрова могли только пешеходы – с воздуха и тонкий, и толстый лед выглядит одинаково.
Командира дорожно-эксплуатационного батальона майора Алексея Можаева вызвали телефонограммой в Смольный.
Разговор в Военном совете фронта был непродолжительным. Принимавший комбата генерал попросил доложить обстановку. Внимательно выслушав ответ, он поднялся из-за стола.
– С местным населением поддерживаете связь? – спросил генерал, внимательно посмотрев в глаза Можаеву – Что говорят старожилы? Можно сейчас перейти озеро?
Можаев сказал, что даже старые рыбаки в прибрежных деревнях, с которыми он советовался, не припомнят случая, когда бы санный путь установился в ноябре. Лед еще очень тонок. Едва отойдешь от берега, как сразу начинает потрескивать.
– Все это так, – перебил его генерал и, подойдя к Можаеву, присел на подлокотник кресла. – Но учтите, что положение у нас исключительно плохое. Вы и все, кто сейчас на Ладоге, должны об этом знать. Неслыханно скверное положение! Три дня назад мы сократили хлебный паек, а сейчас готовим новое сокращение. Понимаете, что это значит?
– Понимаю, товарищ член Военного совета.
– Вот и хорошо, что понимаете. Впрочем, это и почувствовать надо. Но раз понимаете – отлично! Давайте действовать, не теряя времени. Нынешние хлебные нормы ленинградцев долго существовать не могут. Промедление сейчас смерти подобно…
В заключение генерал приказал Можаеву снарядить разведывательный отряд, который должен перейти озеро, проложив трассу к Кобоне, к запасам хлеба.
– Нельзя терять даже часа! – повторил он, отпуская Можаева. – Спасение ленинградцев в ваших руках…
Эти слова накрепко запомнились Можаеву. С ними ходил он по пустынному, заметенному снегом Суворовскому проспекту, дожидаясь машины, чтобы уехать к себе в батальон.
Вечер был холодный. На углу, напротив обгоревшего от фашистских зажигательных бомб госпиталя, стояли женщины с кошелками. Можаев и раньше замечал эти длинные, терпеливо ожидающие очереди за хлебом, но только сейчас понял, что не оценивал их по-настоящему. А ведь бледные лица женщин, молча стоящих возле запертых дверей булочной, говорили о многом. Голод, страшный и неумолимый враг, уже стучал своей костлявой лапой в дома ленинградцев.
Шофер успел навестить свою семью, пока Можаев находился в Смольном. Слушая его горестный рассказ, комбат снова припомнил слова члена Военного совета.
– Голодует народ, – сокрушенно говорил шофер Он ехал с выключенными фарами, осторожно пробираясь по затемненным, будто вымершим улицам Пороховых. – Ужасно как голодует… Все бы ничего – да детей больно жаль. А чем поможешь? Нечем помочь. Худое дело, товарищ майор.
Можаев сидел рядом с шофером, обдумывая предстоящую операцию. Если бы ему разрешили сдать батальон заместителю, а самому отправиться в эту рискованную ледовую разведку, он готов был бы выступить хоть немедленно. Пусть ненадежен молодой озерный лед и чересчур велика опасность – все равно он пошел бы без колебаний. Но об этом смешно мечтать. Хорош командир батальона, бросающий доверенное ему дело ради того, чтобы стать рядовым разведчиком! Нет, его обязанности гораздо шире. Он должен организовать разведку, предусмотрительно и дальновидно обдумать каждую мелочь, от которой зависит успех. Очень важно подобрать смелого и умного командира отряда. Командир – душа всей операции, его воля и настойчивость передаются людям.
Миновали городскую окраину. Машина мчалась к Ладожскому озеру. Изредка шофер включал подфарки, а отъехав километров пятнадцать по дороге, бежавшей теперь среди зимних перелесков, дал полный свет: не всегда же висят над головой немецкие самолеты!
Можаев сидел с закрытыми глазами, перебирая в уме офицеров своего батальона. Лучше всего в командиры отряда подходил воентехник Соколов. Правда, были и другие достойные кандидаты – опытнее его, покрепче физически. Но Соколов молод, настойчив, энергичен и – главное – сам из Ленинграда. Этот в лепешку расшибется, а до Кобоны дойдет.
Возвратись в батальон, Можаев послал связного за Соколовым.
– Есть у вас кто-нибудь в Ленинграде? – спросил он молодого офицера.
– Мать и сестренки-школьницы, – насупившись, сказал Соколов. – А что, товарищ майор?
– Письма давно получали?
– Вчера получил, – все больше хмурясь, сказал Соколов. – Дела такие, что не знаю, что и придумать… Эвакуировать бы надо – дороги нет. Был бы хлеб – как-нибудь бы прожили. Опять же дорога нужна…
– Да, – согласился Можаев, – нужна дорога.
И, помолчав, сказал:
– Вот что, товарищ Соколов: приказываю вам возглавить разведотряд. Сегодня же отберите бойцов, желательно, конечно, добровольцев. Подумайте о снаряжении, средствах связи. Нашему батальону поручено дойти до Кобоны и пробить трассу для конного транспорта, разметив ее вехами…
– Когда выступать, товарищ майор? – спросил Соколов, оживившись.