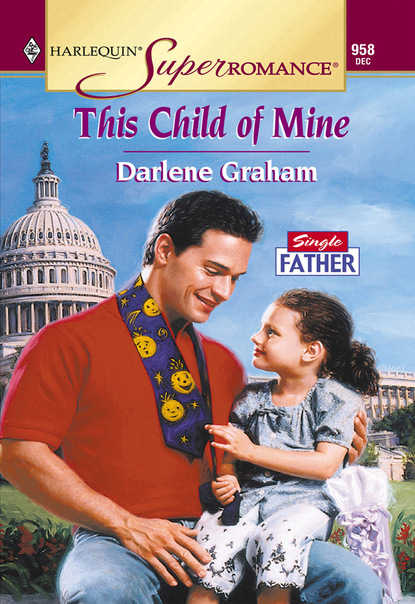Мануфактура

черновик
Михаил потерял всё работу, семью, будущее. Последний день на разорённом заводе... и вдруг старый станок XVIII века откликается на отчаяние инженера.
1698 год. Москва.
Михаил Воронов очнулся в эпохе молодого Петра I. Царь жаждет модернизации, но не знает как. А Михаил знает принцип взаимозаменяемых деталей, поточное производство, секреты стали.
Одна идея может изменить историю. Но какой ценой?
Пока он создаёт станки с миллиметровой точностью, против него восстают цеховые мастера и бояре. Пока обучает первых учеников, патриарх клеймит "дьявольские машины".
Промышленная революция на столетие раньше срока. Железные дороги при Елизавете. Но каждый прорыв оборачивается кровью.
Стоит ли ускорять прогресс, зная цену?
Историческая фантастика о том, как один инженер мог изменить судьбу России.