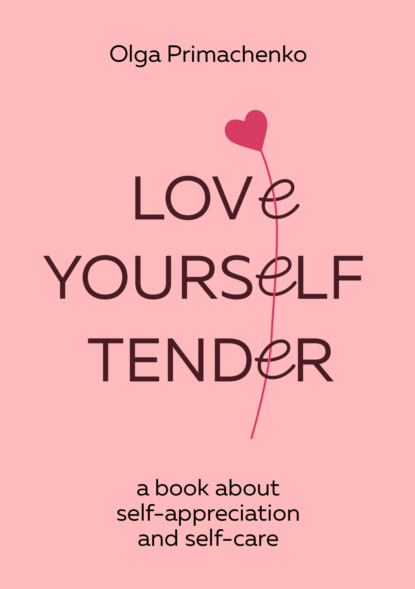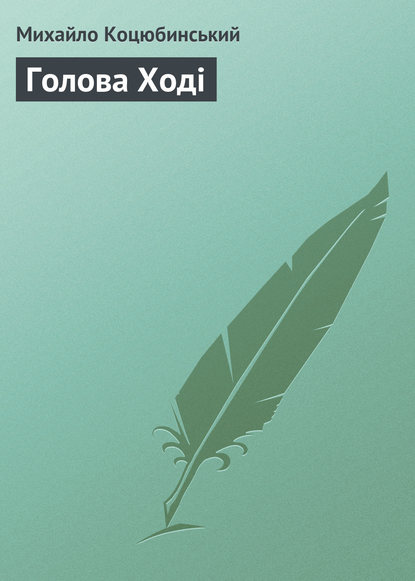- -
- 100%
- +
4. Если кто в этой борьбе побеждает злые похоти, то это означает крепость духа и силу внутреннего человека; если же не побеждает, то это показывает слабость веры и духа. Ибо вера и дух суть одно, как написано: мы веруем, потому и говорим, и действуем (2 Кор. 4:13).
5. Тот, кто побеждает себя и свои злые похоти, гораздо сильнее и крепче того, кто побеждает внешнего неприятеля, как написано: долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города (Притч. 16:32). Потому, если хочешь одержать подлинно великую победу, то победи себя самого – свой гнев, гордость, сребролюбие и злую похоть; тогда ты победишь царство сатаны, ибо во всём этом сатана утверждает царство своё. Поистине, много было воинов, берущих города; но побеждали ли они самих себя?
6. Кто сверх меры прилепляется к плоти, тот умерщвляет душу. Не лучше ли, чтобы душа одержала победу, дабы и тело сохранилось, нежели чтобы одержала победу плоть, и погибли тело и душа? Именно к этому и относятся слова: любящий душу свою потеряет её, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную (Ин. 12:25).
7. Хотя эта борьба и тяжка, но она рождает славную победу, и чрез неё обретается прекрасный венец. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2:10). Победа, победившая мир – вера наша (ср.: 1 Ин. 5:4); мир же сей – в сердце твоём: победи себя, и это будет значить, что ты победил мир.
8. Но скажет кто: как же мне быть, если грех иногда низлагает меня против моей воли? Неужели я буду за то осужден, или неужели я потому не чадо Божие, как говорит св. Иоанн: кто делает грех, тот от диавола (1 Ин. 3:8)? Отвечаю: если ты обнаруживаешь в себе борьбу духа с плотью и, по сказанному св. Павлом, делаешь то, чего ты не хочешь (ср.: Рим. 7:19), пусть это случается даже и часто – то это знак именно верующего сердца, показывающий, что вера и дух в тебе борются с плотью. Ибо святой Павел научает нас собственным своим примером, что такая брань как раз свойственна благочестивым и верующим людям. Он говорит, что видит в членах своих другой закон, противоборствующий закону ума его, то есть новому, внутреннему человеку, и делающий его пленником закона греховного, так что он делает то, чего не хочет: добра, которого хочет, не делает, а делает зло, которого не хочет. Желание добра в нём есть, но чтобы сделать его, того не находит; и Апостол жалуется на это следующими словами: бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? (Рим. 7:18–24) – то есть от тела, в котором вмещаются столь сильно мучащие меня грех и смерть. Это и есть то самое, о чём Господь говорит: дух бодр, плоть же немощна (Мф. 26:41).
9. Доколе в человеке продолжается сия борьба, дотоле грех не господствует в нём. Ибо с кем постоянно борешься, тот не может господствовать. И поскольку грех не господствует в человеке, пока дух борется с ним, то он и не подвергает человека осуждению. Ибо хотя все святые не без греха, как говорит св. Павел: я знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе (Рим. 7:18), или св. Иоанн: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя (1 Ин. 1:8), – однако же Божию осуждению подвергается не обитающий лишь в человеке грех, но именно господствующий. И пока человек борется с грехом и не соглашается на него, до тех пор грех не вменяется ему, как говорит св. Павел: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу (Рим. 8:1), то есть тем, которые не дают плоти господствовать над собою. Но в ком этой борьбы нет, те не родились свыше; в тех грех именно господствует. Они побеждены, стали рабами греха и сатаны и подвергаются осуждению, пока дают в себе господствовать греху.
10. Бог прообразовал нам сие в лице Хананеев, которые жили в обетованной земле, но не должны были господствовать над нею. Бог оставил Хананеев жить между Израилем (см.: Нав. 16:10), однако владычествовать надлежало не им, но Израилю. Так и в святых много ещё остаётся грехов, но они не должны одерживать верх. Господствовать надлежит новому человеку, именуемому Израилем, воином Божиим (см.: Быт. 32:28), а ветхий человек должен быть низлагаем и изгнетаем.
11. Беспрестанная борьба, которая ведётся против ветхого человека новым, выявляет, укрепляет и сохраняет его. Крепость и победа духа выявляет истинного Израильтянина, нового человека. Духовная брань созидает христианина. Земля Хананейская завоёвывается, и обладание ею сохраняется чрез сражение и борьбу. Если же иногда Хананеи и плоть одерживают верх, то Израиль и новый человек не должен долго оставаться побеждённым и давать господствовать над собою греху и Хананеям, но должен снова укрепляться благодатью Божией во Христе, снова восставать чрез истинное покаяние и получение прощения грехов и призывать истинного Иисуса, уже не Иисуса Навина, но Христа, Началовождя нашего, дабы Он укрепил нас и помог нам победить. Тогда прежнее падение покроется, забудется и простится, и человек паки обновится к жизни, обратившись ко Христу и укоренившись в Нём.
12. И хотя ты ещё много подвержен немощи плоти и не можешь совершать всего того, чего с радостью желал бы, но тебе, коль скоро ты каешься, вменяется заслуга Христова, и Его совершенным послушанием покрывается грех твой. И, таким образом, чрез непрестанное покаяние, когда вновь и вновь восстаёт человек от грехов, вменение заслуги Христовой всегда имеет место. Если же нечестивый, нераскаянный человек, произвольно дающий господствовать в себе греху и с вожделением повинующийся плоти в похотях её, захочет вменить себе искупление Христово, то это будет совершенно тщетно. Ибо какую пользу может принести кровь Христова тому, кто попирает её (см.: Евр. 10:29)?
Глава 17
О том, что блага и наследие христиан обретаются не в этом мире, почему и должны они пользоваться временным, как странники и пришельцы
Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
(1 Тим. 6:7–8)1. Принимая от Бога с благодарением, со страхом и трепетом временные блага, мы должны употреблять их только на то, для чего они сотворены: на удовлетворение необходимых наших жизненных потребностей. Остаётся ли от того какой избыток: золото и серебро, пища и питие, одежда и прочее, – всё это даётся человеку для испытания, каким он при этом окажется и как будет обходиться с дарованным: будет ли он прилепляться к Богу и взирать единственно на невидимые небесные блага и радоваться о Боге, или отпадёт от Бога и устремится ко временным похотям и земному миру, возлюбит земной рай более небесного?
2. Поэтому Бог предоставил человеку свободный выбор относительно временных вещей. Бог испытует человека посредством богатства, тех или иных дарований, почестей и благосклонности людской: прочно ли будет он прилеплен к Богу, не допустит ли всему этому отвратить себя от Бога, будет ли жить в Боге или вне Бога, с Богом или против Бога, дабы тогда судить его по его собственному выбору, чтобы он не имел никакого извинения, как говорит Моисей: вот, я призываю ныне небо и землю в свидетели на вас: жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие, да изберёте жизнь и получите благословение (ср.: Втор. 30:19).
3. Таким образом, все вещи в этом мире положены пред очами нашими не для сладострастия и утех, но для испытания – чего мы можем совсем и не понять, если не будет в нас стремления к высшему благу. Ибо всё сие есть запретное древо с плодами своими, от коего мы не должны вкушать (см.: Быт. 2:16), то есть не должны мы так вожделевать мира сего, чтобы находить в нём утешение и радость сердца. Однако ныне весь мир поступает так, ища наслаждения своего во временном для услаждения плоти дорогими яствами и питием, драгоценными одеждами и прочими вещами, которым радуется мир – что и отвращает бо́льшую часть людей от Бога.
4. Христиане же помышляют, что они суть странники и пришельцы Божии на земле, почему и пользуются они всем временным только для необходимой потребности, а не для наслаждения. Только Бог должен быть нашим веселием и радостью, а не мир сей. В противном случае мы совершаем грех и посредством злых похотей ежедневно вкушаем с Евою от запретного древа. Христиане не полагают отрады своей в земной пище: их внутренние очи устремлены к пище вечной. Христиане не блистают земными одеждами, но стремятся желаниями своими к небесному одеянию светлости Божией и осиянию тела, уготованному праведникам (см.: Мф. 13:43). В том мире всё для христиан есть крест, искушение, влечение ко злу, яд и желчь. Всё, к чему человек прикасается с похотением и что употребляет для услаждения плоти, без страха Божия, есть яд для души, хотя телу оно кажется приятным, полезным и даже целительным. Ах! никто не хочет познать, что́ есть запретное древо с плодами его! Всякий с великим вожделением простирает руку свою к недозволенной похоти плоти, что и есть запретное древо.
5. Кто же является истинным христианином, тот всем пользуется со страхом, как странник и пришелец, и тщательно следит, чтобы употреблением пищи и питья, одежды и жилища и других временных вещей не прогневать Домовладыку Бога и не оскорбить товарищей своих (ср.: Мф. 24:45–51); он остерегается злоупотребления временным и всегда верою взирает в вечное, будущее и невидимое, где обретаются истинные блага. Ибо что пользы телу в его долгом наслаждении сладострастием в мире сем, если потом неизбежно будет оно съедено червями? Вспомним св. Иова, сказавшего: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь (Иов 1:21). Мы не приносим с собою на землю ничего, кроме нагого, исполненного потребностей, немощного и слабого тела. Подобно тому надлежит нам перейти отсюда и в иной мир, оставив здесь даже и тело, и жизнь нашу – никак не можем мы взять их с собою.
6. Всё, что мы от часа нашего рождения до самого часа смерти получаем на земле – пищу, питие, одежду, жилище, – есть из милости данный нам скорбный наш хлеб и удовлетворение необходимых потребностей тела. Всё это оставим мы в час смерти и отойдём отсюда в гораздо большей бедности, чем в той, в которой пришли в мир сей (см.: 1 Тим. 6:7). Поистине, человеку умирать бедственнее, нежели родиться. Когда он приходит в мир, то по крайней мере приносит с собою тело и жизнь и сразу обретает покров, пищу и жилище. Когда же он умирает, то должен оставить не только всё это, но и тело, и жизнь свою. Кто же беднее человека, когда он умирает? И если не обогатится он в Боге, то не несчастнее ли он всякой твари?
7. Итак, если мы суть странники и пришельцы, и всё временное простирается не дальше сохранения преходящего нашего тела, то для чего мучим мы и отягощаем нашу бедную душу? Послужит ли нам что-либо временное после смерти? Не безумие ли – собирать для жалкого мертвенного тела столь много имущества, которое всё равно должен будешь ты оставить на земле (см.: Лк. 12:20–21)? Неужели ты не знаешь, что есть другой, лучший мир, что есть другое, лучшее тело и жизнь, чем это преходящее тело и бедственная временная жизнь? Неужели ты не знаешь, что ты странник и пришелец у Бога (ср.: Пс. 38:13)? Вы пришельцы и поселенцы пред очами Моими (ср.: Лев. 25:23), хоть вы и не помышляете о том, – говорит Господь.
8. Таким образом, раз Господь говорит, что мы суть странники и пришельцы, то очевидно, что отечество наше – в другом месте. Это становится ясным, когда мы рассматриваем время и вечность, видимый и невидимый мир, земные и небесные обители, смерть и бессмертие, преходящее и непреходящее, временное и вечное. Когда мы всё это созерцаем и сравниваем между собою, то душа наша очищается, и мы верою видим многое, остающееся непознанным для всех тех, которые не имеют такого строя мыслей. Они наполняют себя земною грязью мира сего, валяются в ней, впадают в излишек мирских забот, сребролюбие и лихоимство; они слепы относительно душ своих, хотя и имеют очень острое зрение по отношению к временным вещам. И они думают, что нет жизни радостнее, благороднее и выше, как только в этом мире, который, однако же, для истинных христиан есть не что иное, как долина плача, мрачный ров и тесная темница.
9. Оттого-то любящие мир и ищущие в нём своего рая уподобляются животным (см.: Пс. 48:21), не поднимаясь выше разумения их. Они слепы относительно внутреннего человека, не имеют небесных помышлений, не могут радоваться в Боге, а радуются только праху и сору мира сего, в котором весь покой их; когда это у них есть, то им и хорошо. Это подлинно состояние животных. О бедные слепые люди! Они сидят во тьме и тени смертной (ср.: Лк. 1:79) и отходят в вечную тьму.
10. Чтобы поистине убедиться, что мы странники и пришельцы в мире сем, мы должны взирать на пример Христов и следовать Ему, Его учению и жизни. Он был нашим предшественником, нашим примером и образцом, и христианам надлежит стремиться к тому, чтобы уподобиться Ему. Взгляни на учение и жизнь Христа: Он был самый совершенный и благородный человек в мире – но что была жизнь Его? Не иное что, как глубокая нищета и отвержение мирской чести, удовольствия и стяжания, трёх предметов, которые мир почитает своим тройственным богом. Не говорил ли Он Сам: Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову (Мф. 8:20)?
11. Посмотри на Давида, как он был беден, презрен и гоним, прежде чем достиг царского сана. Сделавшись же царём, он всё своё царское достоинство и почести ставил несравненно ниже радости вечной жизни, почему и восклицал: как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу живому. Один день во дворах Твоих лучше тысячи в селениях грешников (см.: Пс. 83:2–3, 11), – как бы говоря: «Я владею землёю и народом, есть у меня и царское жилище, крепость Сионская, но всё это ничто пред вожделенными жилищами Твоими». Так и Иов утешался Искупителем своим в скорбях своих (Иов 19:25).
12. Воззри на Петра, Павла и всех апостолов, как они искали себе стяжания и богатства не в этом, но в будущем веке; как восприяли они высокую жизнь Христову, ходили в Его любви, кротости, смирении и терпении, как вменяли они ни во что мир сей. Проклинал ли их кто, они того благословляли; подвергал ли их кто поруганию, они его за то благодарили (см.: 1 Кор. 4:12; Деян. 5:41). Гнал ли их кто, они восхваляли за то Бога; побивал ли кто их, они переносили то с терпением и говорили: многими скорбями должны войти мы в Царствие Божие (ср.: Деян. 14:22). И если кто предавал их смерти, то они молились за него и взывали к Искупителю своему: Отче, прости им (ср.: Лк. 23:34), не вмени им греха сего (ср.: Деян. 7:60). Вот до какой степени умерли они для гнева, мщения и злобы, честолюбия и гордости, любви к миру сему и к собственной своей жизни, и жили во Христе, то есть в Его любви, кротости, терпении и смирении! Живущие так истинно оживают во Христе верою.
13. Не много об этой высокой жизни Христовой знают чада мира сего. Ибо те, кто не живёт во Христе и не разумеет, что истина во Иисусе (Еф. 4:21), мертвы во грехах, в своём гневе, ненависти, зависти, сребролюбии, лихоимстве, гордости и любомщении. И пока человек остаётся во всём этом, никак не может он сотворить покаяния, никак не может ожить во Христе верою, каким бы благочестивым он не выглядел совне. Истинные же христиане знают, что они должны последовать стопам Искупителя своего (ср.: 1 Петр. 2:21); жизнь Его – образец для них, и учебная книга их есть Сам Христос. От Него научаются они Его учению и жизни, от Него узнаю́т они, что истина состоит во Иисусе Христе и что всему учит нас жизнь Христова. Тогда говорят они вкупе с апостолами: мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно (2 Кор. 4:18); не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр. 13:14).
14. Если же мы странники и пришельцы на земле и не имеем здесь постоянного града, то отсюда прямо следует, что мы сотворены не для сего видимого мира. И потому здешний мир не есть настоящее наше отечество и наша собственность; нам открыто лучшее и высшее – настолько лучшее и высшее, что ради него мы готовы лишиться и двух целых миров, то есть тела своего и жизни своей. Да возрадуется христианин сему ведению – что может он обогатиться в Боге и что он сотворён для вечной жизни! Помыслите же, как велико ослепление и как печально состояние мирских безумцев, и как безрассудно поступают они в мире сем, отягощая ради временного благородную свою душу и даже совсем теряя её из-за него.
Глава 18
О том, что Бога весьма прогневляет предпочтение временного вечному; также о том, как и почему мы не должны прилепляться сердцем к какому бы то ни было творению
И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана.
(Чис. 11:1)1. Сыны Израилевы роптали на Моисея и говорили: кто даст нам мяса в пищу? Мы вспоминаем рыбу и лук, которые ели в Египте (ср.: Чис. 11:4–5). Это прообраз тех людей, которые уже в новозаветное время ищут только мирского и плотского, как-то: богатства, чести и сладострастия, и более употребляют старания на то, чтобы обогатиться, нежели чтобы спастись; любят славу человеческую более, нежели славу Божию (ср.: Ин. 12:43); стремятся больше к услаждению плоти, чем к нищете и сокрушению духа. Напротив, признак истинного христианина в том, что он более печётся о душе своей, нежели о теле; более обращает внимания на будущую честь и славу, нежели на временную. Он взирает более на невидимое, которое вечно, нежели на видимое, которое преходяще (см.: 2 Кор. 4:18); он распинает и умерщвляет плоть свою, дабы жил дух.
2. Всё христианство заключается в том, чтобы последовать Христу, Господу нашему. Августин сказал: «Суть религии состоит в том, чтобы следовать тому, кого чтишь и кому служишь». И Платон уразумевал сие из света природы, когда говорил: «Совершенство человека состоит в подражании Богу». Итак, Христос, Господь наш, должен быть образцом и мерилом всей нашей жизни. Сердце наше, мысли и чувства должны устремляться к тому, чтобы знать, как нам прийти к Нему, спастись чрез Него и вечно жить с Ним, дабы мы могли с радостью ожидать кончины своей.
3. Следствием сего должно быть то, чтобы все наши действия, поступки, весь жизненный наш путь и наше служение совершались в вере, любви и надежде вечной жизни. Или, если сказать ещё яснее – во всём, что бы мы ни делали, мы не должны забывать вечную жизнь и вечное блаженство.
4. От такого пребывания в страхе Божием возрастает в человеке святое стремление к тому, что вечно, и низлагается ненасытимое вожделение временного. Этому весьма хорошо научает нас св. Павел в следующем изречении: всё, что вы ни делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца (ср.: Кол. 3:17). Имя же Господа значит: честь Божия, слава, хвала и величание. Как имя Твоё, Боже, так и хвала Твоя до концов земли (Пс. 47:11). Если к этому направляем мы все дела наши и всю нашу жизнь, то мы направляем их к вечности, и это суть дела, которые в Боге соделаны (ср.: Ин. 3:21) и которые идут вслед за нами по смерти нашей (ср.: Откр. 14:13).
5. Одним словом, если мы не хотим лишиться вечной жизни, то нам нужно во всём искать Бога, высочайшее благо и жизнь вечную. Об этом и святой Павел прекрасно говорит в Первом послании к Тимофею, предостерегая нас от сребролюбия: ты же, человек Божий, убегай сего (1 Тим. 6:11). Христианина называет он человеком Божиим потому, что тот рождён от Бога, живёт в Боге и сообразно с Богом, является чадом и наследником Божиим. Мирской же человек – тот, кто живёт по стихиям мира сего (ср.: Кол. 2:8), которого удел – в этой жизни, которого чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих (ср.: Пс. 16:14). Христианин должен избегать сего, стараться преуспевать в вере и любви и достигать вечной жизни, к которой он призван (ср.: 1 Тим. 6:11–12).
6. А кто этого не делает, тот совершает великий грех, который Бог накажет вечным адским огнём. История прообразует нам сие. Когда сыны Израилевы стали искать чревоугодия, то возгорелся у них огонь Господень и начал истреблять край стана (Чис. 11:1). Это был чудесный огонь, огнь мести; это был гнев Божий и ревность Его.
7. Когда нам приходится наблюдать такие явления, как пожары, наводнения, войны, голод или моровую язву, мы должны уразумевать, что это гнев Божий, находящий на нас потому, что люди ищут только временного и забывают вечное, предпочитают временное вечному, более пекутся о теле, нежели о душе – а это есть величайшая неблагодарность и презрение к Богу, которое Он наказывает во времени и в вечности. Пусть каждый размыслит о том сам: не величайшая ли это неблагодарность – пренебрегать вечным всемогущим Богом, от Которого получили мы тело и душу, и делать своими кумирами или ложными богами немощное творение? Не величайшее ли это презрение к Богу – более любить творение, нежели Творца, более прилепляться к преходящему, нежели к непреходящему?
8. Господь Бог создал тварный мир и всё временное для наших необходимых потребностей, а вовсе не для того, чтобы мы прилеплялись к нему всею любовью своею. Во временном творении надлежит нам искать и познавать Бога и прилепляться любовью и сердцем нашим к Нему, как к Творцу. Ибо творения являются только следами Божиими, свидетелями о Боге, которые должны вести нас к Нему – а мы вместо того прилепляемся к ним!
9. Из любви к миру, в котором нет Бога, что может выйти? Не иное что, как огонь и ад, как то́ доказывает пример Содома и Гоморры (см.: Быт. 19:24). Сей прообраз – что Господь попалил их огнём – указует на вечный огонь и вечное осуждение.
10. Все творения Божии, как Господь создал их, есть добро. Но если сердце человеческое прилепляется к ним и делает их своими идолами, то они подлежат проклятью и становятся мерзостью пред Богом. В золотых и серебряных идолах серебро и золото добры, но мерзость идолопоклонства, соединённая с ними, делает их предметом проклятия, и из того происходит вечный огонь и вечная мука.
11. Одним словом, христианин должен жить так, чтобы сердце его, любовь, утешение, радость, слава и богатство заключались в вечном. Плодом сего бывает вечная жизнь: ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Лк. 12:34). Из любви к миру сему и из услаждения им ничего другого не может произойти, кроме вечного осуждения, ибо мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек (1 Ин. 2:17). Посему св. Иоанн говорит: дети мои! не любите мира, ни того, что в мире (ср.: 1 Ин. 2:15). Этим он научает нас, что Богу не угодно, чтобы мы любили какое бы то ни было творение. Причины этому следующие:
1) Любовь – средоточие всего человека; она есть высшая и благороднейшая его сила, а потому и подобает она единственно Богу, как высочайшему благу.
2) Великое безумие – любить то, что не может нас любить взаимно. Временное, как немощное и мёртвое, не имеет к нам любви, и потому нет нам никакого проку любить его. Напротив, Бога обязаны мы любить всем сердцем (см.: Мк. 12:30) и более всякого творения, ибо Он так возлюбил нас, что сотворил, искупил и освятил нас для вечной жизни.
3) Весьма естественно, что всякий любит подобного себе. Бог для того сотворил тебя образом и подобием Своим, чтобы ты любил Его и ближнего своего (см.: Лк. 10:27).
4) Душа наша подобна воску, к которому что приложишь, образ того и остаётся на нём. Образ Божий должен отражаться в душе твоей, как в зеркале: к чему ты обратишь зеркало, то в нём и увидишь. Если ты обратишь его к небу, то увидишь в нём небо; если обратишь его к земле, то увидишь землю. И душа твоя, к чему ты её обратишь, того образ и будет отражаться в ней.
5) Когда праотец Иаков был в чужой земле, в Месопотамии, и работал четырнадцать лет за жён своих и шесть лет за награду свою, что составляет двадцать лет, то всё это время помышления сердца его стремились к возвращению в отечество, что, наконец, и произошло (см.: Быт. 31:17). Так и нам, хотя надлежит пребывать и жить в мире сем, каждому в своём чину и в своём звании, однако же сердце наше непрестанно должно стремиться в небесное вечное отечество.
6) Всё, что человек имеет в себе, злое ли то, или доброе, имеет он от предмета любви своей. Если он любит Бога, то восприемлет от Бога все Его совершенства и всё доброе; если же любит мир, то входят в него все пороки и всё злое от мира.
7) Когда царь Навуходоносор чрезмерно возлюбил мир, то утратил человеческий образ и превратился в зверя (см.: Дан. 4:30). Затем Писание говорит, что разум его возвратился к нему (см.: Дан. 4:33), тем самым подчёркивая, что прежде он свой разум именно утратил, пребывая в образе нечеловеческом. Так чрезмерно любящие мир сей утрачивают образ Божий в сердце своём и становятся внутри псами, львами и медведями, прилагаясь скотам несмысленным и уподобляясь им (ср.: Пс. 48:21).