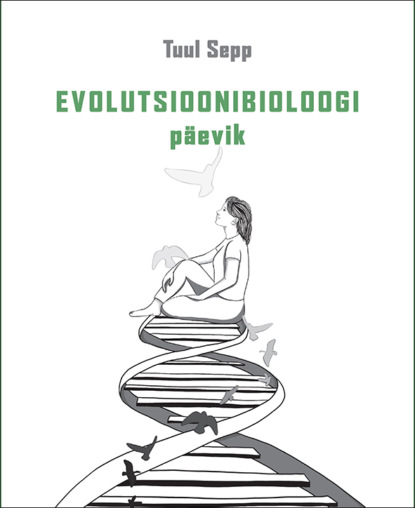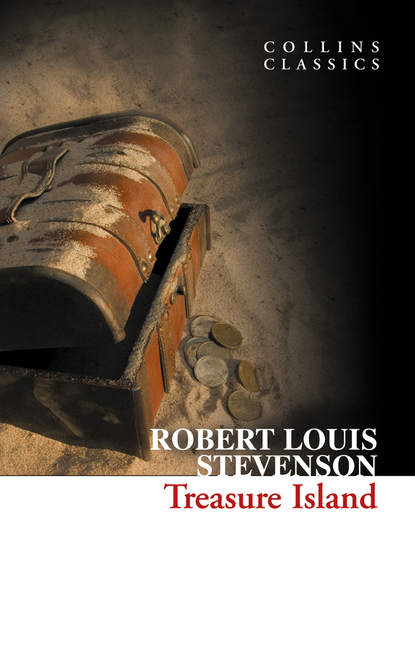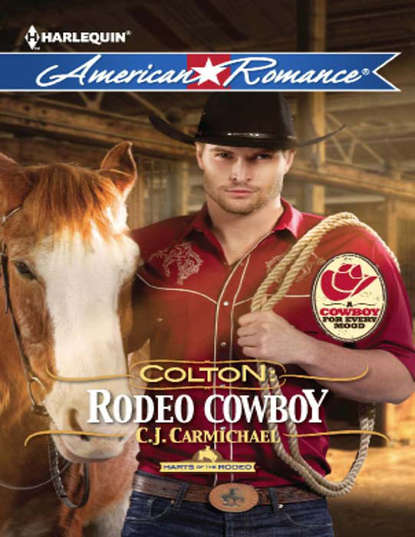Перстень Андрея Первозванного

- -
- 100%
- +
Они распрощались, но, выходя на террасу, Герман успел увидеть мелькнувшую в соседней комнате высокую худощавую фигуру в развевающейся юбке. Не удержался – испытующе глянул в глаза Жерару. Тот мгновенно залился краской, но смотрел с вызовом: а твое, мол, какое дело, ты там можешь с утра до ночи и с ночи до утра трахаться, а мне что, коз пасти?
Герман улыбнулся примирительно, пожал руку Жерару – у того явственно отлегло от сердца – и вышел из бунгало, насквозь пронизанного горячим вечерним ветром.
Забавно, подумал он тогда, все это очень забавно. А впрочем, вполне естественно. Жерар одинок – но он мужчина, совершенно как Карлсон, в полном расцвете лет. И почему бы ему не привести в дом женщину? Вот он и привел… Только вся закавыка в том, что миль на пятьдесят, а то и сто в округе можно найти только женщин лесных туарегов или пигмеев. Та дамочка, которую только что видел Герман, могла бы составить гордость любой баскетбольной команды, то есть о пигмеях тут и речи не было. Значит, женщина лесных туарегов? Нет, нет, и еще раз нет! Герман не мог себе представить ни одну из них, которая легла бы с белым. Сам он не в счет. Во-первых, Герман – побратим короля, все равно что свой. Во-вторых, он ни англичанин, ни француз, ни немец – эти нации для туарегов «орхо», то есть нечистые, запретные. Табу, словом. Разговаривать с представителями наций можно – но не более того.
И только женщины одного сорта позволяли себе отдаваться чужеземцам-орхо. Те, которые еще совсем недавно были мужчинами…
Это было какое-то поветрие, просто заразная болезнь! Иногда Герман с искренним отчаянием думал, что скоро в племени не останется ни одного собственно туарега – то есть мужчины. Кроме разве что короля. И еще неизвестно, кто придет к власти после смерти Алесана. Ведь не секрет, что, пока его отец учился в Англии, предпринималась попытка государственного переворота. Во главе движения стояла первая дукуни. Конечно, Алесан покрепче духом, чем его батюшка, и еще более европеизирован, точнее, американизирован и русифицирован, однако и он внутренне бессилен перед этим наступлением матриархата, в котором Герман уже видел что-то патологическое. Нет, в самом деле! Геродотовы амазонки просто убивали своих мужчин. Соплеменницы Алесана пошли гораздо дальше: они изменяли внутреннюю сущность человека, которая называлась «шеба». А может быть, даже заменяли одну шеба на другую. Мужскую – на женскую. Странные случались иногда совпадения! Скажем, стоило какой-то женщине умереть, и буквально на другой день перед дукуни являлся мужчина в ситцевой юбке, возглашавший, что его шеба желает перерождения. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде перемены оперативным путем вторичных половых признаков. Герман замечал, что у этих несчастных безумцев (с его точки зрения, они все предварительно спятили) вид совершенно потерянный, и относил это на счет бурных переживаний. А тут вдруг призадумался: не действуют ли мужчины по принуждению? Под психологическим давлением? Герман здесь такого навидался, что ничуть не удивился бы, узнав, что шеба умершей женщины ищет себе места в мужском теле и требует его изменения.
Ну, шеба шебой, а некоторых предрассудков даже туареги не могли в себе одолеть. Среди них был и такой: с женщиной, которая утратила прежнюю, мужскую сущность меньше чем два года и девять дней назад, не имеет права предаться страсти ни один лесной туарег – под страхом позорной казни. Однако ненасытная шеба, обретя живую плоть, желала ее тешить… поэтому, собственно, Герман не очень удивился, когда на метеостанции мелькнула ситцевая юбка. Кстати, еще один признак местных транссексуалов: настоящие женщины и те, кто уже заслужил право так называться, презирают европейские материи. Здесь вообще не очень-то принято было одеваться. По мнению Германа, это должно было снижать либидо, но почему-то не снижало, черт его знает почему.
Но все же… все же, все же!
Чем дальше шло время, тем чаще Герман, отдаваясь объятиям темнокожих любовниц, крепко жмурил глаза, воображая рядом другое тело, другое лицо… Нет, оно не имело каких-то определенных или знакомых черт, одно он знал твердо: это была женщина с белой кожей, светлыми глазами и русыми волосами до плеч. Или до пояса. Но уж никак не с коротко стриженными, напоминающими мягкий темный мех! Русыми, обвивающимися вокруг пальцев, словно осенняя трава… Прошлой ночью это видение было настолько сильным и властным, что он едва не оскандалился перед дукуни, в неподходящую минуту открыв глаза и увидев рядом черное лицо и алые чувственные губы.
Однако ему помог страх за жизнь Алесана, которому пришлось бы идти на тигра в одиночку. Герман снова зажмурился, усилием воли вызвал в памяти вожделенный образ – и вот уже дукуни протяжно застонала, забилась… Сам он тоже достиг желаемого – неотрывно глядя в переменчивые, словно речная вода, глаза и целуя розовые губы, пересохшие от страсти.
– Почему ты никогда не рассказывал мне о своей сестре? – проговорил в это мгновение Алесан, и задумавшийся Герман подскочил так, словно лапа тигра, которого они ждали, вдруг просунулась сквозь решетку.
Да, про тигра он уже и позабыл, если честно… Однако еще неизвестно, что хуже: тигр или вопрос Алесана.
Впрочем, ничего нет в этом вопросе особенного, с этими призраками Герман давным-давно справился… а если честно, они существовали только в испуганном воображении его матери, которая слишком много порока навидалась в своей комиссии по делам несовершеннолетних!
– Ты любил ее?
Ну вот! И Алесан туда же!
– И любил, и люблю, – спокойно ответил Герман. – И всегда буду любить. А как же иначе? Мы ведь с ней близнецы.
– Я видел фотографию. На самом деле вы не так уж похожи.
– Ну, все-таки она женщина, а я мужчина, – усмехнулся Герман. – С годами сходство уменьшилось, но в детстве оно было поразительным. Одно лицо буквально. Нас часто путали, да и мы сами вовсю этим пользовались. Как все близнецы, наверное. Однако уже лет с четырнадцати мы вряд ли смогли бы изображать Себастьяна и Виолу.
– Тебя это больше всего и огорчало? – спросил Алесан, и Герман удивился не столько тому, что этот черный колдун, его друг, попал, как всегда, в самую точку, сколько остроте своего желания стряхнуть пыль со старых чувств, поковыряться в давно заживших ранах. Мазохизм, конечно…
– Ну да, можно и так сказать.
– Мне трудно понять. У нас все иначе, ты знаешь.
Да уж. Дети племени не ведали отцов, а матери считали себя сестрами. И все туареги были если не родными друг другу, то двоюродными. Понятие кровосмесительной связи в таком случае становилось более чем условным. Что характерно, туареги искренне полагали такие отношения нормальными и для других народов. Одно племя – одна кровь, какая разница, кто с кем спит, если все изначально дети одной праматери, а значит, братья и сестры? Так что если бы Герман сейчас признался, что всю жизнь тайно вожделел к своей сестре-близнецу и рассорился с семьей именно из-за того, что не смог одолеть убийственную ревность, Алесан бы вполне понял это и только посочувствовал бы другу.
Но ведь дело было как раз не в этом. Не в этом!
– Представляешь, у нас с Ладой был шанс стать чем-то вроде сиамских близнецов, – мрачно буркнул Герман. – Мы родились практически одновременно, чуть не прикончив при этом маму. И пальчики на ногах, мизинчики, у нас были сросшиеся. В смысле, Ладушкин мизинчик – с моим. К счастью, это оказалась просто перепоночка, кожа, которую благополучно разрезали, – и нас разъединили. Но я всю жизнь помнил, что когда-то мы были единым целым. Сестра этого почему-то не чувствовала так остро. А я как бы жил сразу двумя жизнями – своей и ее. Например, в детстве я всегда совершенно точно знал, где она, что думает, что чувствует. У близнецов это обычное дело, но тогда я об этом не подозревал и был уверен, что одному мне даровано такое сверхъестественное ощущение. Ужасно, скажем, смешно было, что я любил играть бумажными куклами, платьица им рисовал, причем классно, хотя притом ходил на фехтование и в секцию карате. И куколок любил маленьких, пупсиков таких, – невесело усмехнулся он. – В одиннадцать лет у меня уже был детский разряд по плаванию, а дома – пупсики… Но мне все это не мешало. Это ведь была не собственная моя жизнь, а жизнь Лады. Сейчас я бы сказал – alter ego, параллельный мир, другое пространство… ну, как в лес из города съездить и вернуться, понимаешь? А потом… – Герман тяжело вздохнул. – Потом нам стало по двенадцать лет, и я начал ощущать, как все меняется.
У Лады начались все эти женские штучки, и те несколько дней, пока они продолжались, она была закрыта от меня наглухо. Будто непроницаемой стеной! Сначала я чувствовал себя просто кошмарно, бесился, не понимая, что происходит, даже температура поднималась! Потом, позднее, анализируя свои полудетские чувства, я сравнивал себя с Ихтиандром, который слишком долго дышит легкими и у него пересыхают жабры. Но вот Ладавозвращалась – и мир возвращался ко мне – прежний, полный двойственных ощущений и мыслей. Наверное, можно сказать, что тогда я не мог без нее жить. И превращение девочки в женщину воспринимал как отмирание части самого себя. То есть, конечно, это теперь я нахожу нормальные слова и говорю вполне спокойно, а тогда была одна сплошная нерассуждающая боль и протест, протест… Как говорится, я был трудным ребенком. Мама в сорок лет стала седая из-за меня. А, что рассказывать!
Он перевел дыхание, слушая эхо своих слов, катившееся до самого леса.
– Что-то я слишком раскричался, да? – спросил он, понижая голос. – Как бы не спугнуть эту тварь!
– Не волнуйся, – отозвался Алесан. – Тот бедолага рассказывал мне, что его жена как раз пела, когда тигр ворвался в хижину.
– Петь я не умею, чего нет, того нет, – искренне огорчился Герман.
– Тогда говори. Тебе же надо наконец выговориться… на прощание.
Герман насторожился.
Неужели Алесан уже чувствует то, что лишь зарождалось, смутно брезжило в нем? Может, Герман еще передумает! Но про себя знал, что нет, не передумает, и Алесан догадался об этом раньше его. Для Алесана мысль, чувство, даже импульс – такая же реальность, как слово или даже поступок. Только Алесану он может рассказать о том, что он испытывал к Ладе, только Алесан узнает, что ужасаться в этих чувствах было решительно нечему. И стыдиться – нечего.
– Мы учились в девятом классе, когда появился Кирилл. Он был старше нас – остался на второй год из-за болезни: катаясь на лыжах, упал, сломал обе ноги, позвоночник повредил… И вот пришел в наш класс. Не знаю, понимаешь ли ты, но в школе один класс, один год – это страшно много, это рубеж выше десятилетия в сорок и пятьдесят! Для нас это был человек другого поколения. Мы все на него невольно смотрели снизу вверх – и все, все поголовно девчонки в нашем классе в него влюбились. Разумеется, и Лада.
Она совершенно потеряла голову! Кирилл тоже. Я бы удивился, если бы не потерял… Лада никогда по глазам внешностью не била, но если на нее взглянешь, то уже не оторвешься. Итак, они друг друга полюбили. Ну а я…
Кирилл – он был странноватый такой. Отец то ли существовал, то ли нет, никто о нем не слышал. Его вырастила мать – известная в нашем городе тележурналистка. Очень хорошая, сильная – ее потом в Москву взяли, да она и была оттуда родом. Они уехали, но Кирилла с Ладой уже нельзя было разлучить.
Мы боролись за Ладу, как дикие звери, дозволенными и недозволенными приемами. Но если Кирилл боролся за свою любовь, то я… я защищал себя. Ту часть себя, которая отрывалась с Ладой. А это было не то что пальчик от пальчика отрезать!
Конечно, это был в какой-то степени шиз. Тогда я и начал интересоваться психиатрией, хотя всегда, сколько себя помню, хотел быть только хирургом, как отец и дед.
– Знаменитый Григорий Налетов? Тот, что из рода колдунов? – с уважением сказал Алесан, для которого пребывание в болдинской больничке отнюдь не прошло бесследно.
– Вот-вот. Не забыл? Деревня Дрюково и ее обитатели. Ведьмы-кошки, «хомуты» на редьке, осиновые поленья в колыбельках вместо детей-обменышей, украденных лешими, домовые шастают по ночам, оборотни бродят в округе… Фантастика большая и малая! Дед, впрочем, был сугубым реалистом. Мог сделаться знахарем, но сбежал в город и стал хирургом. Мы с отцом уже следом. Предполагалось, между прочим, что Лада тоже в медицинский пойдет. Не пошла. Думаю, из-за меня и Кирилла. Выбрала нечто среднее, ни нашим ни вашим – химбиофак. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? – спохватился он вдруг: Алесан как-то подозрительно притих за спиной. Не заснул ли часом?
– Не сплю, не бойся, – зевнул тот. – Давай еще говори.
– Собственно, я все уже рассказал. Что было потом, ты и сам знаешь. Мама простыми словами дала мне понять, что вражда к Кириллу вызвана причинами «непристойными и противоестественными». Это меня так потрясло… не оскорбило даже, а поразило: вдруг и в самом деле?! – что я съехал из дому в общежитие. Потом уехал в Болдино, потому что Кирилл и Лада по-прежнему встречались. Все надеялся, что в один прекрасный день сестра мне позвонит и скажет: все кончено, ты был прав! – но вместо этого она вышла за него замуж…
Алесан сидел тихо-тихо. Потом опять зашевелился, распрямляя затекшие ноги, и сказал с ноткой нерешительности:
– И все-таки я одного не понял…
«Одного? – едва не расхохотался Герман. – В этом-то море бессвязной фрейдистской психоаналитической чепухи не понять только одного?! Интересно, чего же именно?»
– Ну? – пошевелил он локтем.
– Почему ты все-таки так ненавидел Кирилла?
И опять Алесан угодил в точку. Задал тот самый вопрос, который всегда стоял перед Германом! Но все же он попытался ответить – не столько другу, сколько себе самому:
– Да очень просто. Дело здесь даже не в Ладушке. Просто всегда, с первого мгновения нашей встречи, я знал, что он тоже ненавидит меня. И все, что он делал, он делал не из любви к ней, а из ненависти ко мне!
Он еще успел расслышать удивленное восклицание Алесана, и тотчас спокойная тьма за пределами охотничьего домика вдруг вспыхнула двумя белыми огнями – и с рычанием набросилась на него.
Когти пронзили сапог, и Герман не сдержал крика.
Одним ударом проломив перекладину, тигр просунул лапу в домик и запросто выдернул бы Германа наружу, если бы три другие жерди не оказались более прочными.
Герман как безумный шарил по полу, пытаясь нашарить штуцер. Да где он?! Только что рядом был!
Что-то вцепилось ему в плечи сзади, рвануло, повалило.
Как, и там тигр?!
До Германа не сразу дошло: это Алесан опрокидывает его наземь, чтобы удобнее было стрелять.
Ну уж нет! Тигр напал с его стороны – значит, это его тигр!
В этот миг правая рука наткнулась на штуцер, стиснула.
Герман выстрелил сразу из обоих стволов, полулежа, и отдача была так сильна, что его буквально придавило к полу. Все же он увидел, как темный ком отлетел от решетки. И тотчас над головой дважды оглушительно полыхнуло: Алесан, конечно же, не мог остаться не у дел!
Мгновение царила непроглядная тьма, а потом…
За свою жизнь Герман не раз приходил к выводу, что луна просто поразительно коварна и любопытна. Вот и теперь: позволила тигру подкрасться вплотную к охотникам (которых он уже считал своей законной добычей), а потом выкатилась на небеса, чтобы полюбоваться, кто кого.
Но уж сомнений быть не могло! Эффект от разрывной пули чудовищный, а уж от четырех-то… Потом, при свете дня, Герман нашел множество клочков тигриной шкуры, очень похожих на те, леопардовой расцветки, от маминого шарфика…
А тогда он просто сидел в клетке, предоставив более проворному Алесану выскочить наружу и единолично принимать почести от восхищенных подданных, которые со всех ног мчались с факелами от деревни, призывая благословения всех богов на голову Великого Быка, Слона Могучего… и прочая, и прочая, и прочая. Герман сидел, потирая ноющее плечо и боясь поглядеть на ногу, и как-то очень медленно, длинными словами думал, что, похоже, пора возвращаться домой: он сделал здесь все, что мог. Вот, даже тигра-людоеда пристрелил, как и обещал некогда Ладе… да, все-таки первый выстрел был его, что бы там ни думал о себе Сулайя XV!
А еще Герман думал, как странно все-таки, что тигр бросился на него именно в тот миг, когда он впервые обозначил словами биотоки, которые всегда исходили от Кирилла. Словно бы та необъяснимая ненависть вдруг обрела вещественное воплощение – и вырвалась из тьмы!
* * *Мейсон тащил Гаврилова в скверик. Он каким-то непостижимым собачьим чутьем знал, что победил-таки хозяина: тот больше не водил Мейсона на ненавистный пустырь, наполненный угрожающими, а что еще хуже – высокомерными запахами.
Гаврилов угрюмо брел за оживленным псом. На заводе опять (третий раз подряд!) задержали зарплату. Жена принесла свою – и заплакала:
– Видела сегодня рекламу: в Египет, мол, поезжайте, пирамиды смотреть. А мне в магазин зайти страшно! На что жить? Втроем-то!.. Чего сидишь сиднем, ищи другую работу. Вон, в магазине опять грузчик нужен – попросись, может, возьмут!
– Да ведь у меня на заводе сутки через трое, – заикнулся Гаврилов. – Разве возьмут в магазине не на полную ставку? Надо же кого-то на оставшиеся дни искать, а кто захочет?
– Сутки через трое! – уже взрыдала жена. – Плюнь ты на этот завод, в конце концов! Тоже мне профессия – стрелок военизированной охраны! У тебя и пистолет не заряженный отродясь!
– Тебе откуда знать? – смертельно обиделся Гаврилов. – И что, грузчик в гастрономе – хорошая профессия, да? Престижная?
– Престиж нынче денег стоит. Где зарплата нормальная, там и престиж, – огрызнулась жена. И совершенно другим, безнадежно-усталым голосом спросила: – Ну что, звонил кто-нибудь насчет квартиры?
– А то, – вяло откликнулся Гаврилов. – Трое звонили. Одна женщина даже собиралась прийти в три-четыре.
– Ну и?..
– Ну и не пришла, конечно.
Вот именно – конечно…
После той злосчастной истории квартиру словно заколдовали. Люди интересовались, звонили, назначали встречу – однако дальше этого дело не шло. Ей-богу, можно было решить, будто всех их на подходе к дому перехватывает какая-то злая сила и дает от ворот поворот.
Гаврилов иногда всерьез думал, не выставили ли соседи добровольные пикеты вокруг дома, и чуть только кто-то начинает интересоваться квартиркой номер восемьдесят, ему сразу выкладывают жуткий рассказец о том, как неделю назад здесь, в этой самой квартире, был найден застреленный мужчина, а под ним – недостреленная женщина, которая вроде бы даже и не совсем женщина, а…
Гаврилов и сам не знал, откуда пошли эти слухи про не совсем женщину, однако его ушей они тоже достигли. Видимо, кто-то где-то ляпнул в полиции или в больнице, там вовремя оказались чьи-то знакомые – ну и, как обычно бывает, теперь все всё знали. Иногда Гаврилову казалось, что, если бы дело было только в убийстве, разговоры утихли бы скорее. Подумаешь, ну что такое в наше время убийство?! Сообщениями о них наша жизнь полна с утра до вечера, от первых, самых ранних новостей и до последнего фильма «после полуночи». Нет, было что-то особенное, невыносимо позорное в том, что эта, недобитая, была вдобавок недоделанной женщиной! Несколько раз Гаврилов ловил соседские взгляды, полные не насмешки, не любопытства, даже не злорадства (о сочувствии, конечно, и говорить нечего!), а нескрываемой брезгливости. Как будто он сам был в чем-то виноват! Как будто он сосватал этому, как его, Рогачеву, тетьку-дядьку!..
Нет, знал бы Гаврилов, кто тот доброхот, снабжавший потенциальных квартиросъемщиков «нужной информацией», – собственноручно язычок выдрал бы!
А как кстати было бы сейчас сдать квартирку-то…
От рогачевской проплаты не осталось даже воспоминаний, деньги нужны – прямо позарез. Весна грядет, надо машину на ноги ставить, обувать, само собой. Крыло бы покрасить. Выправить и покрасить. А если серьезно, то и двигатель не просто перебрать бы, а…
Гаврилов обреченно махнул рукой и едва не выпустил поводок. Размечтался! Раскатал губу!
Мейсон вдруг сильно рванулся. Гаврилов по инерции пробежал за ним несколько шагов и только потом сообразил, что Мейсон тащит его к собственной жене (в смысле – Гаврилова: Мейсон-то жены не имел, потому что был в свое время кастрирован, бедолага), которая бежит-катится по тротуару, будто колобок, размахивая руками и крича:
– Ваня! Ваня, она пришла!
– Кто? – растерялся Гаврилов, вглядываясь в высокую женскую фигуру, которая в этот миг выступила из сумерек и остановилась за спиной жены.
– Она! Та… – Жена чуть оглянулась и с особенным пиететом отрекомендовала: – Та дама, с которой ты договорился квартиру посмотреть.
О господи! У Гаврилова даже ладони вспотели, и он принялся суетливо стаскивать перчатки, как бы намереваясь на радостях поручкаться с долгожданной клиенткой.
Дама, впрочем, такого желания не выразила и по-прежнему держала руки в карманах короткой дубленки, отороченной ламой. Лицо ее пряталось под капюшоном, и сколько Гаврилов ни вглядывался, видел только твердый, решительный подбородок. Голос у дамы оказался тоже решительный, властный, правда, чуть хрипловатый. Возможно, от курения: от нее пахло духами и хорошим табаком.
Гаврилов по жизни терпеть не мог курящих женщин, был в этом смысле ужасным пуританином и даже разговаривал с «ходячими табакерками» подчеркнуто грубо, однако на сей раз решил поступиться принципами и быть терпимее к человеческим слабостям. В конце концов, почему бы денежной даме не покурить хорошие, дорогие сигареты? В квартире он ей дымить запретит, конечно… но не сразу, а как только получит задаток!
– Ваня… – фальшиво промурлыкала жена, и Гаврилов очнулся от мечтаний о том, как он распорядится этим самым задатком.
– Ну что, пошли поглядим квартирку, коли есть охота, – промолвил он с небрежным пожатием плеч. Совсем ни к чему, чтобы эта долговязая поняла, до какого зарезу она нужна Гаврилову! Надо знать себе цену, он всегда говорил! Довольно и того, что эта круглая дура, на которой он женился пятнадцать лет назад, бегает тут на задних лапках! – Я вас, правда, к трем ждал, ну что ж, опоздали так опоздали…
– К трем? – удивилась дама. – Вряд ли мы с вами договаривались. Я только что позвонила, буквально четверть часа назад. Правда? – Она полуоглянулась, и Гаврилов только сейчас разглядел стоявшую за ее спиной неприметную и молчаливую фигуру в сером китайском «козлике» и вязаной шапочке. Фигура кивнула, подтверждая. – И оказалось, что мы находимся поблизости от вашего дома. Решили взглянуть на квартиру сразу. Но ваша супруга сказала, что ключ у вас, – вот мы все и отправились на поиски.
Гаврилов внимательно слушал. Мейсон – тоже: совершенно как хозяин, склонив набок кудлатую голову и подергивая правым ухом. Правда, в темноте было не разглядеть, шевелит ли ухом и Гаврилов.
– Хотя да, – задумчиво согласился он. – Точно, звонили не вы. У той голосочек был такой звонкий, молоденький, как у синички, а у вас…
Он поймал исполненный ужаса взгляд жены и осекся, поняв, что слегка переборщил с чувством собственного достоинства.
– А у меня старческий, хриплый, как у вороны, – закончила дама и расхохоталась без всякой обиды. – Да уж какой есть! Но, может быть, мы уже пойдем, а?
Гаврилов, от замешательства не чуя под собой ног, побрел по асфальтовой дорожке.
– Ну, я тогда домой пойду, – постукивая зубами, сказала жена, и Гаврилов только сейчас заметил, что дура-баба впопыхах выскочила в сапогах на босу ногу и без шапки. – Ваня, ты там смотри хорошенько…
– Ладно уж, как-нибудь не глупее тебя, – буркнул он, ускоряя шаг и едва удерживаясь, чтобы не побежать на полусогнутых перед дамой, которая неторопливо шествовала следом, все так же держа руки в карманах и пряча лицо в тени капюшона. Подружка в сером «козлике» тащилась позади, и Гаврилову при взгляде на нее почему-то стало легче. Эта уж точно не из победительниц жизни, так что он не одинок.
Мейсон испугался, сообразив, что его лапе вновь суждено ступить на ненавистную территорию. Рвался с поводка, скулил. Гаврилов еле справлялся с этим придурком, исподтишка поглядывая на знакомые окна. Новое стекло как-то особенно поблескивало в бледном вечернем полусвете. Гаврилов испытал что-то похожее на гордость. Ужасно захотелось обратить на стекло внимание надменной дамы: вот, мол, стеклышко свежевставленное, чистенькое, мы не как иные-прочие, изолентой крест-накрест не заклеиваем! Но это было глупо: пришлось бы объяснять, почему да отчего вставляли… Она еще успеет узнать все, когда поселится! Если еще поселится, конечно.
Гаврилов тяжело вздохнул, дергая к себе Мейсона, который сделал отчаянную попытку удрать.
Дурак беспородный, сбесился, что ли?!
Вошли в подъезд – и Мейсон вдруг завыл.
– Что это с ним? – изволила спросить дама. – К покойнику, что ли?
Гаврилов споткнулся. Господи, да неужели она уже знает?! Но откуда? Кто успел разболтать? Когда?! Или это у нее юмор такой? У денежных дамочек юмор бывает – закачаешься!