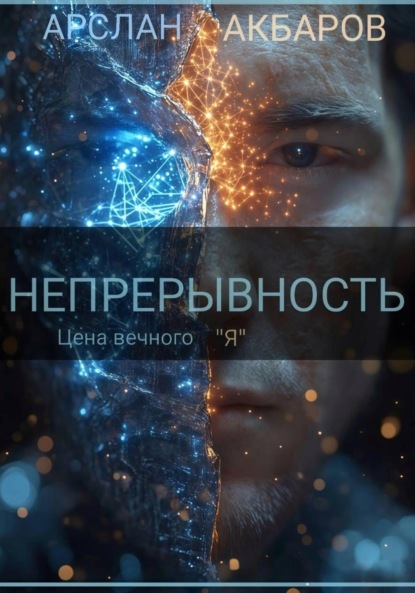- -
- 100%
- +
Он смотрел на голограмму, на этот «единый том» своего сознания, и в его глазах на мгновение мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее родительскую нежность. Это была не просто технология. Это была элегантность. Хирургическая точность, соединённая с почти метафизическим уважением к оригиналу. Он не убивал, чтобы заменить. Он преображал, чтобы сохранить. И в этой парадоксальной элегантности заключалась вся его вера и вся его надежда.
***
Лев провёл пальцем по интерфейсу, отбрасывая в сторону основные отчёты об успешной Процедуре. Его интересовало не это. Он открыл папку с пометкой «Поведенческий анализ. Постпроцедурный период. Объект 7-Дельта». На экране замелькали видеозаписи. Шимпанзе по кличке Агат, первый примат, полностью прошедший «нейронное ткачество», сидел в обогащённой среде своей вольеры. Всё было безупречно: координация движений, узнавание смотрителей, решение простых головоломок. Но Лев смотрел не на это. Он смотрел на паузы. На моменты выбора.
Агат никогда не пробовал новую, незнакомую пищу первым. Он ждал, пока её попробует сородич в соседнем вольере, и только тогда, убедившись в безопасности, принимался за еду. Агат не пытался исследовать новую игрушку – блестящий шар с подвижными частями. Он обходил его, предпочитая старые, знакомые пазлы, решение которых было ему гарантировано. Агат не проявлял спонтанного интереса, не делал необдуманных движений. Его поведение было стерильно-рациональным, идеально выверенным и до жути предсказуемым.
Лев откинулся назад, и в белом свете лаборатории его лицо казалось высеченным из мрамора. Внутри же всё сжалось в ледяной ком.
«Я убрал страх, – констатировал он про себя, и слова эти прозвучали как приговор. – Я отключил древние миндалины, эти перегоревшие предохранители, что вечно кричали об опасности. Я думал, что освобожу разум. Но оказалось…»
Он снова посмотрел на записи. На абсолютно безопасное, лишённое малейшего намёка на авантюризм существование Агата.
«…что страх – это отец любопытства. Чтобы захотеть исследовать тёмную пещеру, нужно сначала победить страх перед ней. Чтобы рискнуть, нужно преодолеть страх потери. Я вырвал сорняк, а с ним и корень цветка.»
Мысль, как щупальце, стало растекаться дальше, находя новые, пугающие параллели.
«Что ещё является парными категориями? Боль и эмпатия? Чтобы понять страдание другого, нужно помнить своё. Если я устраню боль, не убью ли я способность к состраданию?»
И самый главный, самый страшный вопрос, выросший из детского осколка зеркала и незаконченной рукописи деда:
«Смерть и жажда жизни? Не является ли наше яростное, отчаянное цепляние за каждый миг, наша жажда творить, любить, ощущать – прямым следствием знания о конечном отпущенном сроке? Что останется от сознания, если убрать этот таймер, этот вечный двигатель нашего существования?»
Он не нашёл ответов. Лишь осознал фундаментальную проблему, лежавшую в основе его грандиозного замысла. Сохраняя сознание, он неминуемо менял его химию, его фундаментальные движущие силы. Он стоял перед дилеммой: получить вечное, но, возможно, пустое и лишённое сути сознание, либо сохранить хрупкое, полное страданий, но именно поэтому – живое.
Это был первый, едва слышный звонок. Предупреждение о том, что за бессмертие придётся заплатить самой душой. И Лев, глядя в бесстрастные глаза цифрового Агата, впервые почувствовал, как под ногами у него не просто пол лаборатории, а тончайшая грань, отделяющая гения от безумца, а спасение – от вечной потери.
***
Дверь в лабораторию отъехала с тихим шипением, впуская не только струю воздуха из коридора, но и её. Аня. Она была в белом лабораторном халате, на планшете в её руке мигали схемы протоколов – формальный предлог для визита. Но её глаза, тёмные и усталые, говорили о другом.
Лев не обернулся. Он знал, что это она. Её присутствие он чувствовал кожей, изменением атмосферы в стерильном воздухе.
«Последние данные с датчиков капсулы, – её голос был ровным, профессиональным. – Всё в пределах нормы. Можно начинать.»
Он молча кивнул, продолжая смотреть на голограмму. Она приблизилась, встав с ним рядом. Двое людей, разделённых общим прошлым и пропастью во взглядах, под мерцающим светом их общего, чудовищного творения. Мозг на проекторе пульсировал, как будто прислушиваясь.
«Знаешь, что я вижу, глядя на это?» – тихо спросила Аня, отбрасывая формальности.
«Будущее,» – отрезал Лев.
«Нет. Я вижу склеп.» Она сделала паузу, давая словам просочиться в его сознание. «Ты не ищешь бессмертия, Лев. Ты роешь могилу, в которую хочешь лечь заживо.»
Он резко повернулся к ней, и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, что горел в нём с детства – яростный, неугасимый.
«Я даю ему свободу! – его голос прозвучал резко, почти как скрежет. – Свободу от тюрьмы этого тела! От тления, от слабоумия, от слепой, глупой химии, что выдаёт за наши чувства, за наши мысли! От страха, от боли, от всего, что делает нас рабами!»
«Рабами жизни, Лев! – парировала она, не отступая. – Именно это и делает нас людьми! Ты создаёшь идеальную тюрьму для своего сознания, вырываешь его из контекста бытия, и называешь это раем! Это будет рай призрака, запертого в зеркале!»
Они стояли друг напротив друга, разделённые сантиметрами и целыми мирами. Голограмма мерцала, отражаясь в их зрачках – третья сторона в споре, символ того, что уже нельзя было остановить.
Аня покачала головой. В её взгляде не было злобы. Только горькое, бездонное сожаление. Она поняла, что слова бессильны.
«Хорошо, – тихо сказала она, отступая к двери. – Иди к своей свободе.»
Она остановилась на пороге, обернувшись для последнего, самого точного удара. Её голос прозвучал с леденящей прозорливостью:
«Когда ты поймёшь, что я была права, будет некому тебе об этом сказать. Там, где ты будешь, не будет настоящих "других". Будут только отражения.»
Дверь закрылась за ней, оставив Льва в одиночестве перед светящимся двойником его разума. Эхо её слов висело в воздухе, смешиваясь с тихим гулом машины. Он сжал кулаки, пытаясь заглушить внезапно нахлынувшую волну сомнения. Она ушла, оставив после себя не пустоту, а вопрос, который теперь будет преследовать его, – в этой жизни или в той, что ждала его за стеклом капсулы.
***
Словно вместе с Аней из лаборатории ушёл последний звук. Белое пространство оглушило Льва своей стерильной безмолвностью. Даже гул аппаратов казался приглушённым, втянутым в вакуум, образовавшийся после её ухода. Её последние слова – «…будут только отражения» – висели в воздухе незримым, ядовитым облаком.
Медленно, будто преодолевая сопротивление невидимой среды, он подошёл к главному терминалу. На чёрном экране pulsed единственная кнопка. Текст на ней горел ровным алым светом, как раскалённая печать: «ИНИЦИИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ. СУБЪЕКТ: КОРВИН Л.»
Его палец замер в сантиметре от поверхности. Не из-за страха. Из-за последней, пронзительной ясности.
Он резко отвёл руку и быстрыми движениями вызвал на экран знакомый файл. «Чертёж Бога». Схема его сознания развернулась перед ним во всей своей пугающей сложности. Он пролистал до раздела «Лимбическая система. Эмоциональная регуляция». Алгоритмы, которые должны были отсечь «биологический шум» – страх, тоску, экзистенциальную тревогу, – светились зелёным, готовые к выполнению.
И он принял решение.
Его пальцы заскользили по интерфейсу, внося поправки. Он не отключал модули полностью. Он ослабил параметры, изменил пороги срабатывания. Вместо полного удаления страха – он оставил возможность для его тени. Вместо устранения тоски – разрешил ей возникать как тихому, глубинному фону. Это была не оптимизация, а целенаправленное внесение уязвимости.
«Если я ошибаюсь, – прозвучала в нём чеканная, ясная мысль, – я хочу иметь возможность это осознать. Я должен сохранить инструмент для распознавания ошибки. Иначе…»
Он посмотрел на голограмму, на этот идеальный, выверенный цифровой слепок.
«…иначе это будет не я. Это будет просто машина, уверенная в своём успехе. А я… я всегда сомневаюсь. Именно это и заставляет меня идти вперёд.»
Это был не жест отчаяния. Это был последний, выстраданный акт свободной воли «старого» Льва, человека из плоти и крови. Он не слепо верил в технологию – он шёл на осознанный риск. Его решение было продиктовано не только научной гордыней, но и тем сомнением, что посеяла в нём Аня. Он оставлял себе путь не к отступлению – отступать было уже некуда, – а к осознанию. Даже если это осознание будет заключаться в вечной, цифровой тоске по утраченной человечности.
Он сохранил изменения и снова посмотрел на алую кнопку. Теперь между ним и ею не было ничего. Никаких оправданий. Никаких поправок.
Его палец нажал на стекло. Твёрдо. Без колебаний.
На этот раз – навсегда.
***
Каждый жест был отточен и лишён суеты. Лев снял лабораторный халат, обнажив под ним тонкий сенсорный костюм, плотно облегавший тело, как вторая кожа. Ткань мерцала тусклым блеском, готовая считывать малейшие вибрации, малейшее изменение в состоянии его организма. Он протянул руку к стерильному контейнеру, извлёк катетер и с безразличной, автоматической точностью ввёл его в порт на внутренней стороне запястья. Лёгкое жжение, знакомое и почти не замечаемое, – последний физический дискомфорт, который ему предстояло ощутить в этом теле.
Его движения были не механическими, а церемониальными. Это был ритуал отречения. Каждое действие – прощание с одной из функций бренной оболочки.
Он повернулся к главному экрану, где по-прежнему парил «Чертёж Бога». Светящаяся схема, бывшая когда-то лишь мечтой, а теперь – его приговором и спасением. Он смотрел на неё не как учёный, а как неофит на икону. И из его губ, тихо, но чётко, вырвалась фраза, перекраивающая основы бытия:
«Cogito, ergo translatum.»
Мыслю, следовательно, переношусь.
Это было его переосмысление Декарта. Смещение точки отсчёта. Не «я мыслю, следовательно, я существую», а «сам акт мышления есть доказательство возможности его переноса». В этих словах заключалась вся его вера, вся его философия и вся его надежда.
Он лёг в капсулу. Мягкий материал кресла принял форму его тела. Прозрачная крыша начала медленно опускаться, отсекая его от внешнего мира последним барьером. С мягким шипением манипуляторы, эти хромированные щупальца, заняли позиции вокруг его головы. Их сенсоры, похожие на фасеточные глаза, замерли в сантиметре от его висков, готовые начать своё ювелирное вторжение.
Но взгляд Льва был устремлён не на них и не на «Чертёж Бога» за стеклом. Он смотрел в матовую поверхность потолка капсулы, но видел сквозь неё и перекрытия лаборатории, и городскую засветку, и слои атмосферы. Он видел звёзды. Те самые, на которые когда-то смотрел его дед-астрофизик, пытаясь постичь законы вселенной. Те самые, что были отражены в осколке разбитого зеркала.
Он шёл к ним не через телескоп, а изнутри. Это был его ответ на вызов тёмного космоса. Его способ картографирования вечности.
Глава 3: Хор голосов
Воздух здесь был другим. Не озоном и стерильной чистотой, а смесью запахов антисептика, свежего белья и чего-то неуловимого, но узнаваемого – тревоги. Она витала в пространстве, впитываясь в стены, в мягкую обивку кресел, в матовые поверхности мониторов, мерцавших мягким синим светом.
Это была предпроцедурная палата. Место, где заканчивалась одна реальность и ещё не начиналась другая. Комната, лишённая технологического величия главной лаборатории. Здесь не было гигантских голограмм или хромированных манипуляторов. Только несколько анатомических кресел, приглушённое освещение и тихий гул вентиляции, пытавшийся вытянуть наружу сгущающееся напряжение.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.