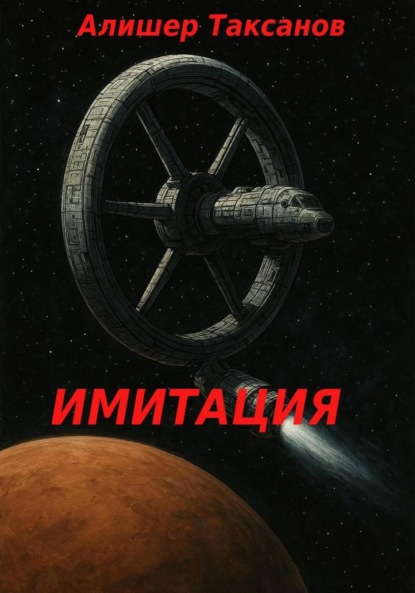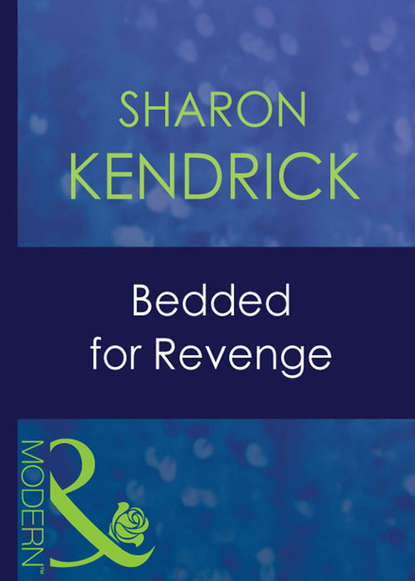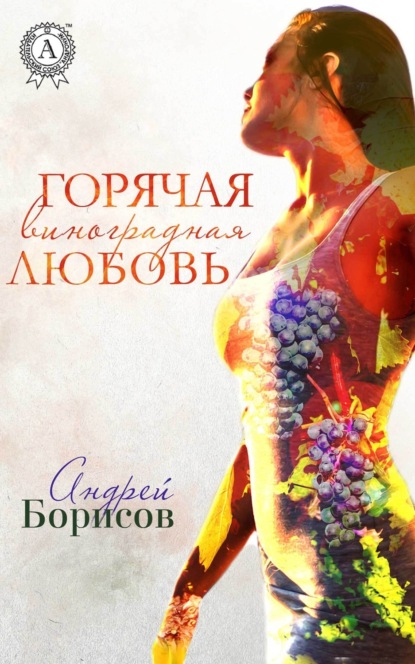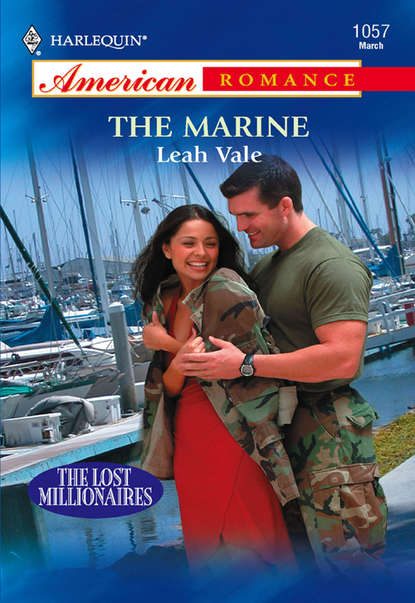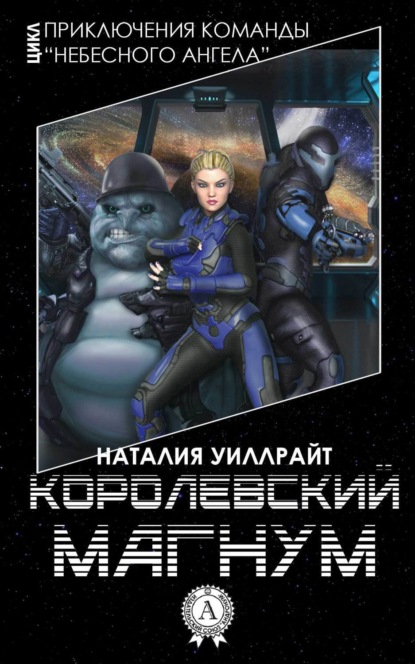- -
- 100%
- +
Я подошёл ближе, глядя на пульсирующие столбцы на одном из экранов.
– Слушай, ты постоянно смотришь на индикаторы этого пульта, – спросил я, подсев к Ушакову. – Что именно беспокоит тебя?
Тот обернулся, нахмурился, будто я задал вопрос из учебника для детсада, потом понял, что перед ним не инженер-механик, а программист, и его взгляд потеплел.
– Это пульт управления и контроля за ЯЭУ, – сказал он спокойно.
– Чего? – переспросил я.
– ЯЭУ, – с легкой усмешкой повторил Сергей. – Ядерно-энергетическая установка. Реактор, который снабжает нас электроэнергией. Контроль обязателен, потому что на борту у нас, по сути, атомная бомба. Сам понимаешь – не игрушка!
– Да ты что! – изумился я.
– А ты что думал, нас солнечные батареи питать будут? – Он даже хмыкнул. – Таких источников недостаточно для марсианского полёта. Наша установка вырабатывает столько энергии, что её хватило бы для небольшого города – тысяч на пятьдесят человек, лет на десять. Потом, конечно, нужно менять топливные стержни.
Я присвистнул.
– Но зачем нам столько энергии? Мы же не прожигаем её просто так.
– Теоретически, – начал он с деланным терпением, как учитель, объясняющий ленивому ученику прописные истины, – энергия нужна не только для работы систем жизнеобеспечения, связи и навигации, но и для газофазных ядерных реактивных двигателей. Они обеспечивают разгон «Радуги» в космосе – до двухсот километров в секунду. Представь: реактор нагревает водород до состояния плазмы, которая выбрасывается через сопла, создавая тягу. Мощность колоссальная. И знаешь что? Девяносто процентов всей вырабатываемой энергии уходит именно туда – в двигатели. Всё остальное – ерунда по сравнению с этим прожорливым чудищем.
Он говорил с каким-то священным восторгом, словно не о машине, а о живом существе, которое понимал один он.
– Ну, это для реального полёта, – возразил я. – А сейчас-то мы на макете. Куда уходит вся эта энергия?
Сергей пожал плечами, не отрывая взгляда от пульта.
– Мы тестируем всё оборудование, в первую очередь реактор. Как мне сказали, вся энергия, что вырабатывается здесь, идёт в Тестово-испытательный центр, а частично – на оборонные объекты поблизости. Мы ведь под юрисдикцией Новосибирского гарнизона. Так что, если по-честному, наш галеон не только имитирует полёт, но и работает на оборону государства.
Он усмехнулся, глядя, как колеблется тонкая зелёная линия на экране.
– А для нас, испытателей, это просто обеспечение нужд полёта. Формально – космос, фактически – подстанция. По процедуре я должен снимать показания каждые полчаса и передавать их в центр. И знаешь, что забавно? – он посмотрел на меня и тихо добавил: – Даже если этот реактор когда-нибудь рванёт, на ТИЦе всё равно будут считать, что эксперимент прошёл успешно. Главное ведь – данные.
– А, ясно, – кивнул я. – Хотя они, сидящие по ту сторону корпуса, и так всё получают по проводам… Дублируешь, выходит.
– Ну, это и так ясно. Просто я выполняю процедуру, ведь мне за это и платят. В реальном полёте именно так и должно быть – не протянешь же провод от Земли до Марса, – с ехидцей в голосе сказал Сергей. – Ладно, не отвлекай!
Я отошёл, всё ещё покачивая головой. В его словах звучала усталость, привычная ирония и, может быть, едва заметное презрение – не ко мне, а к самой системе, к абсурдной бюрократической дисциплине, заставляющей нас делать лишнее, потому что «так положено». Но, наверное, именно эта педантичность и удерживала всё в целости. Я стоял у переборки и смотрел, как он вновь склонился к пульту, – маленький человек, окружённый холодным сиянием приборов, будто в храме, где богом был атом. Внутри у меня шевельнулось странное чувство – смесь уважения, тревоги и какого-то неясного предчувствия, будто в этом спокойствии скрыта угроза, будто под кожей корабля тихо урчит чудовище, ждущее приказа.
Ладно, отвлёкся. Так вот, за ЯЭУ находился склад «P» – просторный отсек, где хранились запасные части и инструменты для крупных агрегатов. Воздух там пах маслом и холодным металлом, словно в подземном депо. Дальше шёл отсек «R» с резервуарами топлива, а за ним – отсек «S», где располагались главные маршевые двигатели – газофазные ядерные реакторы, придававшие кораблю крейсерскую скорость. Их громада вызывала почти благоговейный трепет: десятки тонн конструкций, трубопроводов, радиационных экранов, всё это заключало в себе не просто силу – стихию, которую человек сумел подчинить. Кроме маршевых двигателей были ещё поворотные, маневровые – они уступали по мощности, но позволяли кораблю точно держать курс и изменять ориентацию в пространстве.
Я немного знал о конструкции этих чудовищ, но в лекциях ТИЦа инженеры говорили о них с особым блеском в глазах. Один из них, худощавый, с седыми висками и спокойным голосом, тогда объяснял: в критической сборке реактора находятся тепловыделяющие элементы, внутри которых плутоний существует в паровой, то есть газовой фазе – так называемой «урановой плазме». Разогретая до десятков тысяч градусов, она передаёт тепло теплоносителю – водороду или гелию – через лучистый теплообмен. Нагретый до ослепительных температур газ выбрасывается в сопла, образуя реактивную струю с фантастически высоким удельным импульсом.
Я помню, как он тогда стоял у схемы, подсвеченной голубыми лампами, и говорил с тем вдохновением, каким старые моряки рассказывали о ветрах и парусах:
«Преимущество этого двигателя, товарищи, в его мощности и эффективности. Удельный импульс – в десятки раз выше, чем у химических установок, а масса – в разы меньше. Мы говорим о тяге в десятки тысяч тонн. Понимаете, это уже не просто двигатель, это дверь. Возможность ускорять корабли до сотен, а в будущем – и до первых тысяч километров в секунду! Это путь к границам Солнечной системы, к поясу Койпера, к звёздным маршрутам. Газофазный ядерный двигатель даст нам возможность не только летать, но и жить – строить базы на Луне, колонии на Марсе, поселения дальше, где ещё не ступала нога человека».
И я тогда подумал: если человечество когда-нибудь действительно покинет Землю, то в этом будет заслуга таких вот людей – сухих, педантичных инженеров с измазанными чернилами руками и фанатическим блеском в глазах, для которых атом – это не оружие, а парус, наполненный ветром космоса.
Это всё было нами аккуратно законспектировано, и теоретически мы имели представление, что именно должно было двигать «Радугу» в сторону Красной планеты. Но одно дело – схемы и лекции, и совсем другое – стоять внутри этой стальной громады, где всё продумано до миллиметра, где каждый отсек дышит своей функцией, где металл кажется почти живым. Каждый отсек – фактически автономный мир, отрезанный от соседнего герметичными переборками. Принцип «подводной лодки» оказался здесь не метафорой, а строгим инженерным законом. Переходя из одного сектора в другой – от каюты в спортзал, из Центрального поста в медотсек – мы всегда открывали, а затем плотно закрывали за собой люки, следя, чтобы индикаторы на дверях мигнули зелёным.
Самое страшное, что может случиться – пожар или разгерметизация. Тогда всё пространство мгновенно превращается в лабиринт капсул, отрезанных друг от друга. Алгоритм прост и беспощаден: задраить все переходы, изолировать повреждённый отсек, не пытаться спасти находящегося там человека, если это ставит под угрозу остальных. Единственный шанс выжить у того, кто остался внутри, – самостоятельно потушить огонь с помощью подручных средств или заделать пробоину. Для этого в каждом отсеке висели красные шкафчики, опечатанные пломбами, в которых хранились термоустойчивые одеяла, герметизирующие пластины, баллоны с инертным газом и кислородные маски. Мы тренировались открывать их вслепую, по памяти, на случай, если система освещения выйдет из строя. Жестоко? Несомненно. Но в космосе нет места сантиментам – здесь жизнь измеряется не эмоциями, а количеством воздуха и целостностью корпуса.
Когда я глядел на корабль, по которому бродил, меня каждый раз охватывало чувство почти религиозного восхищения. Эта махина, собранная из километров проводов, тончайших трубок и безупречных сплавов, была настоящим чудом человеческого разума. Конструкторы сумели соединить холодную математику и поэзию движения, и, глядя на это творение, я понимал: такое могла построить только великая техническая цивилизация, страна, способная превратить невозможное в будничную норму. И я испытывал тихую, но упрямую гордость, что родился именно здесь, что говорю на том же языке, на котором создавались эти чертежи и приказы, что под флагом России можно не только защищать землю, но и штурмовать небо. Государственный флаг, развевавшийся над центральным постом, и эмблема «Радуги» рядом с ним казались не просто символами – они придавали смысл нашему присутствию здесь, поддерживали невидимую моральную ось экипажа, служили напоминанием, что за каждым болтом и кабелем стоит страна, ждущая своих героев.
Несмотря на то, что «Роскосмос» оставался полувоенной структурой, а Министерство обороны фактически курировало все крупные космические программы4, оружия на борту не имелось – ни торпед, ни ракет, ни пулемётов. Всё-таки «Радуга» – гражданское судно, созданное для исследования, а не для боя. Хотя, как нам объяснили, каждый экипаж имеет личное оружие – трёхствольный неавтоматический пистолет ТП-82, реликт советской инженерной мысли, предназначенный для защиты от диких зверей и непрошеных гостей после посадки на Землю. К нему прилагались боеприпасы трёх типов: охотничьи, сигнальные и дробовые. На Марсе, разумеется, ни тигров, ни бандитов не предвиделось, но традиция есть традиция – оружие должно быть на борту, запечатанное в металлическом ящике. Ключ от него имел только командир.
Я лично этих пистолетов не видел, но Саркисов уверял, что они есть и на нашем галеоне. Он сам принимал ящик и лично его опечатывал. В этом, как и во всём остальном, имитация была предельно приближена к реальности – до последней мелочи, до ощущения, что стоит лишь закрыть люк за спиной, и гул Земли останется далеко позади, а впереди – только бескрайний космос, и тишина, в которой слышно, как бьётся сердце машины.
Старт к Марсу мы произвели ночью – если, конечно, исходить из условного бортового времени. На самом деле никакой ночи не существовало, ведь за стенами «Радуги» не было ни тьмы, ни света – только равнодушная пустота. Но нам было необходимо сохранять ощущение привычного ритма, чтобы не сойти с ума. Мы заранее договорились делить сутки на утро, день, вечер и ночь, будто за иллюминатором продолжает вращаться Земля. Это было важно не только для расписания, но и для внутреннего равновесия. На Международной космической станции, как мы знали, астронавты видели рассвет и закат шестнадцать раз в сутки – и мозг отказывался воспринимать такую смену ритма. Люди теряли ориентацию во времени, нарушался сон, начинались сбои в эмоциональной сфере.
У нас же всё выглядело иначе. Мониторы и гибкая видеопластика на стенах отсеков создавали иллюзию земной жизни: за окнами сменялись небо, облака, заря; гасли лампы, включались мягкие отблески лунного света. Иногда казалось, что мы не в металлическом цилиндре, а в уютном доме где-нибудь под Москвой, где за стенами шелестят деревья и капает осенний дождь. Психологи Тестово-испытательного центра настояли на этой системе – и они были правы. Иллюзия обычной смены суток оказалась важнейшим элементом выживания, ведь нам предстояло провести восемь месяцев в замкнутом пространстве, где каждая секунда похожа на предыдущую, а любые изменения – только в цифрах приборов. В таких условиях даже звуки – скрип ремней, жужжание фильтров, тихий писк датчиков – начинают жить своей тревожной жизнью, становясь частью пульса корабля.
До сих пор самым длительным пребыванием человека в космосе считался полёт Валерия Полякова, проведшего на орбите 438 дней. Он доказал, что человеческая психика способна выдержать почти полтора года изоляции и невесомости, что человек может не только существовать, но и работать в абсолютной оторванности от планеты. Но подвиг Полякова имел и обратную сторону. После возвращения на Землю врачи и психологи отмечали перемены: он стал мрачнее, раздражительнее, замкнутей, словно в нём осталась инерция тишины орбиты, где ни один звук не приносит утешения. Долгое одиночество изменило структуру его эмоций – они будто окаменели, стали более функциональными, чем живыми.
Нас же спасало то, что мы не были в одиночестве. Четыре человека – это уже микромир, маленькая планета со своими законами, привычками и шутками. Мы знали, что под нашими ногами всё-таки Земля, пусть и спрятанная за километрами бетона Тестово-испытательного центра. Эта мысль действовала как страховка: стоило вспомнить, что за стеной люди, связь, воздух, – и клаустрофобия отступала.
В 01:20 по бортовому времени мы расселись по креслам центрального поста. На экранах замерли таблицы проверок, графики и кодовые строки, подтверждающие: всё готово. Атмосфера напоминала предгрозовую тишину, когда никто не смеет пошевелиться, боясь нарушить равновесие. Саркисов, сидевший справа от Маслякова, нервно сжимал подлокотники, будто пилот перед настоящим стартом. Его голос прозвучал неожиданно громко:
– Прошу разрешения на взятие курса на Марс!
Масляков медленно поднял взгляд. На его лице отражалось всё: ответственность, гордость, внутреннее волнение, которое он тщетно пытался скрыть. Мне показалось, он чувствовал себя как Королёв, отдающий приказ на старт – тот самый момент, когда слова становятся судьбой. Его рука слегка дрогнула, но голос прозвучал твёрдо:
– Разрешаю.
Он нажал клавишу подтверждения. На главном мониторе вспыхнули зелёные индикаторы, и внутри нас что-то сдвинулось, будто мы действительно покинули Землю. Никто не произнёс ни слова. Даже Ушаков, обычно не удерживавшийся от комментариев, молчал. Мы просто сидели, слушая, как в глубине корпуса тихо гудят системы, и ощущали, что эта ночь уже не просто часть эксперимента – это наш первый шаг в бездну, из которой нельзя выйти прежними.
По команде пилота включились двигатели в маршевом режиме. В тот миг всё пространство вокруг нас словно сжалось, и нас буквально вдавило в кресла. Сквозь мощный корпус ощущался глубокий, гулкий рокот – не просто звук, а вибрация, проходящая через грудную клетку, через все внутренности, будто сам корабль оживал и напрягал мускулы перед прыжком в бездну. Пол дрожал, панели слегка подрагивали, лампы мерцали едва заметным светом. Казалось, металл, из которого создан галеон, пел низким, звериным басом.
Я представил, какой ад творился бы, если бы всё это происходило на самом деле: из сопел вырывались бы языки огня температурой в три тысячи градусов, выжигая небо над Сибирью и превращая в прах Тестово-испытательный центр. Даже имитация их работы, переданная через мощные виброплатформы и акустические системы, внушала трепет. Это был не просто звук – это было ощущение мощи человеческой инженерной мысли, её готовности подчинить себе стихию. И, сидя в кресле, я поймал себя на мысли, что впервые по-настоящему поверил в реальность этого полёта.
На мониторах центрального поста один за другим сменялись кадры – Земля, медленно уплывающая за корму, Луна, вырастающая бледным диском, чернота пространства, пересечённая тонкой дугой орбит. Мы видели, как наша посудина будто бы срывается с орбиты и начинает разгоняться до семидесяти километров в секунду – скорость немыслимая, почти божественная. Крейсерская же скорость, как напомнил Масляков, достигала двухсот пятидесяти километров в секунду, но пока корабль «шел на малом ходу», разгоняясь осторожно, будто зверь, пробующий мощь своих лап.
Космос не знает прямых линий. Мы летели не «к» Марсу, а «навстречу» ему, по изогнутому, сложному пути, рассчитанному так, чтобы наши орбиты пересеклись в нужной точке. Всё вокруг было математикой, но под этой сухой логикой скрывалось странное поэзия движения – грациозное, точное, почти музыкальное.
Через два часа двигатели «остановились». Корабль перешёл в режим инерционного полёта, и ощущение давления исчезло. Мы откинулись в креслах, словно выплыли из глубины. Гул стих, и наступила тишина, такая плотная, что слышно было, как щёлкают реле и работает вентиляция. На главном экране цифры застынули в идеальных значениях – курс, скорость, ориентация. Мы всё сделали правильно.
Из динамика раздался голос диспетчера:
– Курс выверен. Отклонений нет. Движение стабильное. Поздравляем с успешным стартом.
Он говорил спокойно, почти буднично, но в его тоне чувствовалось что-то вроде восхищения. Потом он добавил:
– Вас начнут сопровождать станции слежения. Имейте в виду: скоро сигнал начнёт запаздывать. Работаем по схеме с задержкой, говорите блоками. Не требуйте немедленного ответа.
Слова звучали официально, но мы понимали смысл: нам предстояло «жить» в имитации не просто полёта, но и отрыва от Земли. В реальности сотрудники ТИЦ сидели всего в нескольких метрах от корпуса, могли бы кричать нам через стену, но правила требовали точного соблюдения процедуры – ведь именно на этом держится иллюзия. Теперь каждое слово должно было проходить через фильтр задержки, как будто миллионы километров действительно разделяют нас и тех, кто остался на планете.
Лететь до Марса нам предстояло два месяца – ничтожный срок для космоса, но вечность для человека, замкнутого в металлическом чреве. Мы знали, что путь на Красную планету сравним с путешествием первооткрывателей прошлых веков. В Средние века парусники тратили столько же времени, чтобы пересечь океан – от Лиссабона до Гаваны, от Севильи до берегов Индии. Только морякам помогали ветер, волны и звёзды, а мы плыли в безмолвии, где нет ни ветра, ни горизонта, ни даже ощущения движения.
Они могли увидеть остров, встретить бурю, выжить на обломках, упасть на колени перед родной землёй. Мы же, в случае беды, не имели бы ни малейшего шанса. В безжизненном пространстве нет спасателей, нет случайных встреч, нет берегов. Если корабль теряет герметизацию, если выходит из строя реактор – всё кончено. В аварийном отсеке можно продержаться несколько минут, не больше. Это знали все, и никто не говорил об этом вслух.
Я часто думал об этом и ловил себя на странных мыслях: а если бы Христофор Колумб проводил не реальное плавание, а имитацию? Если бы его «Санта-Мария» стояла в ангаре, а волны Атлантики были просто звуковым эффектом? Он бы никогда не открыл Америку. Но, возможно, я делал именно то, чего не смог бы сделать Колумб – я готовил путь для тех, кто однажды действительно отправится туда, к Марсу. Я был не мореплавателем, а чертёжником чужих открытий. И всё же где-то внутри шевелилась гордость: может, именно с этой имитации начнётся реальное путешествие – такое же опасное, безумное и великое, как все первые шаги человечества в неизведанное.
ГЛАВА 4. БОРТОВАЯ ЖИЗНЬ
Итак, мы в имитационном космосе. По расчетам навигационной программы мы покрывали около шести миллионов километров в день – цифра немыслимая, почти абсурдная, но в рамках моделирования всё выглядело правдоподобно. За пятьдесят семь земных суток мы должны были достичь орбиты Марса. Впрочем, сам полёт воспринимался не как движение вперёд, а как странная изоляция во времени: будто мы не перемещались в пространстве, а постепенно уходили вглубь какой-то искусственной вечности, созданной приборами, стенами и психикой.
Говорить, что жизнь на борту галеона напоминала земную, конечно, нельзя. В этом и заключался парадокс: мы находились на Земле, но при этом старались жить так, словно всё земное осталось где-то очень далеко, на голубом шаре, висящем в черноте. Каламбур, достойный философа: мы на Земле, но должны забыть, что она существует. У нас была создана замкнутая среда, особый мир, где даже воздух, хоть и насыщенный кислородом, казался неестественным, переработанным, как будто в нём отсутствовал запах травы, влажной земли или человеческого дыхания.
Тестово-испытательный центр обеспечил для нас идеальную изоляцию. Внешний мир не проникал сюда ни в каком виде – ни звуком, ни светом. В космосе ведь царит абсолютная тишина, и её, насколько возможно, воссоздали и здесь. Однако полной безмолвности не получилось: наш галеон жил – дышал, скрипел, гудел, урчал. Щёлканье реле, тонкий писк приборов, мерное жужжание вентиляции, треск электроклапанов – всё это создавало странную, механическую симфонию, от которой не укрыться ни в одной каюте. Даже ночью, когда освещение переходило в «режим сна», где-то в глубине корабля продолжала стучать невидимая жизнь – непрерывный ток электричества, бесконечное вращение насосов, гул систем регенерации воздуха.
Поначалу я почти сходил с ума. Эта механическая какофония, постоянная и навязчивая, действовала на нервы. Я спал в затычках, пил снотворное, раздражался на любой шорох. Но постепенно, как ни странно, звуки стали чем-то вроде фона, чем-то своим. Через две недели я перестал их замечать – наоборот, их отсутствие стало бы тревожным. Казалось, что тишина означала бы смерть корабля.
И с тех пор я стал спать спокойно. Более того, сны стали необычайно яркими – насыщенными цветом, движением, смыслом. Иногда я видел целые картины, сложные и динамичные, словно снятые оператором: лица, события, даже запахи. Я просыпался и мог подробно пересказать, что со мной происходило «там». Раньше такого не было. Ульянова объясняла это адаптацией мозга к сенсорной изоляции, но в глубине души я думал, что мы все постепенно начинаем жить в двух реальностях – в одной физической, а в другой, подсознательной, где сны становились продолжением эксперимента.
Однако вскоре я стал замечать странные вспышки. Ярко-зелёные и голубые блики, вспыхивавшие перед глазами даже тогда, когда я не смотрел на экраны. Они появлялись неожиданно – во время еды, чтения, просто разговора, – и казались фосфоресцирующими, как светящиеся медузы в темноте. Я решил не откладывать и отправился в медотсек.
Доктор Ульянова выслушала меня внимательно, молча проверила зрачки, осмотрела глаза через оптический прибор, потом долго рассматривала данные на экране и наконец сказала, немного растерянно:
– Это не свет. Это радиация. Мозг воспринимает её как вспышки. Вам нужно принимать антирадиационные препараты и носить затемнённые очки. Всем – без исключения.
– Радиация? – переспросил я, не веря. – Откуда радиация в Тестово-испытательном центре? Мы же на Земле!
– Возможно, – неуверенно ответила она, – они переправляют поток излучения от ядерно-энергетической установки на корпус корабля, чтобы проверить экранную защиту. Нужно же определить уровень безопасности для экипажа при межпланетном полёте…
Она говорила тихо, сбиваясь, словно сама не до конца понимала, во что нас втянули. Получалось, что в рамках «безопасной» имитации нас действительно подвергали облучению – пусть слабому, но настоящему, чтобы отследить дозы и реакцию организма. Нас обстреливали протонами, альфа-частицами, тяжёлыми ионами.
Я вышел из медотсека с неприятным ощущением – не тревоги даже, а странного недоумения. Имитировать можно многое – звук, движение, невесомость, даже одиночество. Но радиацию? Это уже не игра. Это физическая реальность, от которой не укроешься. Хотелось верить, что всё рассчитано, безопасно, под контролем. Но в глубине души я знал: стоит чему-то пойти не так – и наш галеон превратится в источник заражения, а ТИЦ – в радиоактивный саркофаг.
С этого дня я впервые ощутил, что эксперимент, в котором участвую, – не просто игра в космос, а что-то гораздо серьёзнее. И где-то там, за стенами центра, кто-то, возможно, уже наблюдал за нами не как за людьми, а как за объектами испытаний.
Чуть позднее Сергей, всегда спокойный и рассудительный, пояснил нам, что субатомные частицы действительно проникают сквозь корпус корабля – сквозь любой, даже самый прочный металл. Они не сталкиваются с препятствием в привычном смысле: просто проходят, оставляя после себя микроскопические каналы, подобные следам пуль, только на уровне атомов. Эти дыры настолько малы, что не вызывают разгерметизации, но сам факт их существования производил тревожное впечатление. Слушая его, я представлял, как бесчисленные частицы, рожденные где-то на поверхности Солнца или за пределами галактики, проходят сквозь стены, через приборы, через тела, как если бы мы были сделаны из стекла.
Сергей рассказывал, что космонавты программы «Аполлон» сталкивались с этим эффектом: алюминиевые модули, в которых они летели, давали слабую защиту от космических лучей. Во время сильных солнечных вспышек уровень излучения возрастал настолько, что даже кратковременное пребывание в открытом космосе могло оказаться смертельным. «Они тогда просто молились, чтобы Солнце не плеснуло на них вспышкой, – сказал он с мрачной усмешкой. – На “Радуге” таких проблем не будет. Наш корпус многослойный, с композитными экранами, между которыми расположены слои борного пластика и жидкостных прослоек. Он держит удар. По крайней мере, так заявлено».