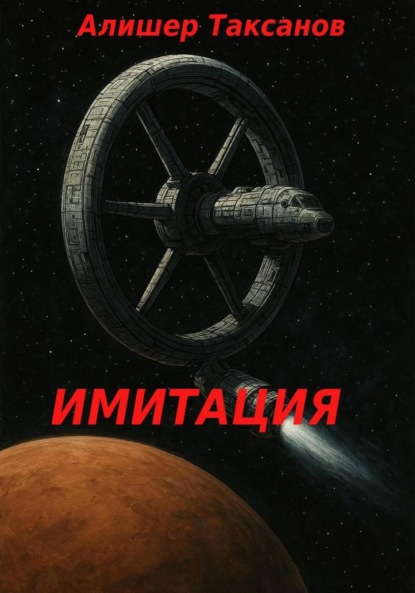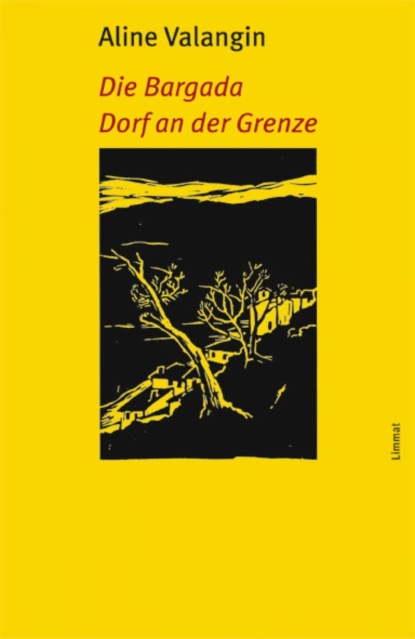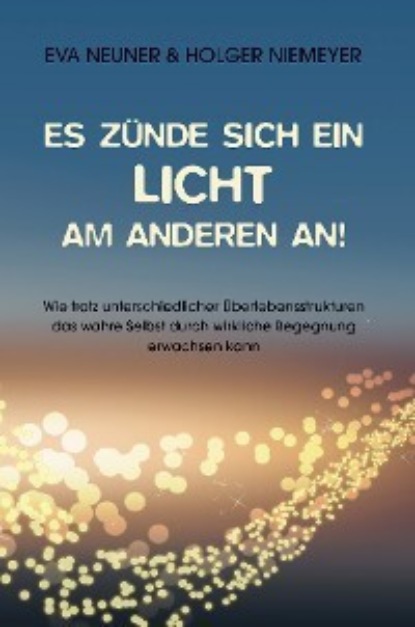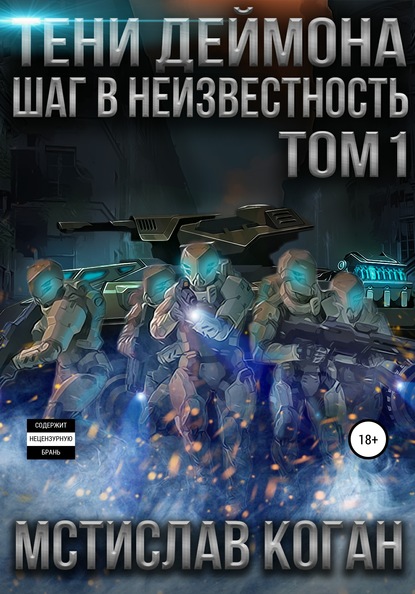- -
- 100%
- +
Под гигантским куполом, который уходил так высоко, что терялся в полумраке, стоял он – корабль-макет. Безымянный гигант, гордый и молчаливый, как зверь перед пробуждением. Полная копия «Радуги» – корабля, которому предстояло первым в истории человечества доставить людей на Марс. Металлический корпус поблёскивал тускло, не полированным глянцем, а живым, рабочим блеском – следы клёпок, гермошвов, термоизоляция, узлы креплений, кабели и переходные модули. На боках – символика программы: герб Роскосмоса, эмблема в виде луча, пересекающего красную планету, и надпись «Проект „Радуга“» крупными, уверенными буквами.
Настоящий корабль, как я знал, находился примерно в ста километрах отсюда, на стартовом комплексе, известном под кодовым названием «Сибирь». Завод-космодром. Туда уже неделями доставляли модули, двигательные секции, стабилизаторы, топливные блоки. Я однажды видел, как туда уходили железнодорожные составы под усиленной охраной: на платформах – гигантские цилиндры, закрытые бронепанелями, а сверху медленно кружили вертолёты, следя за маршрутом. Никто не знал, что именно они везут – даже у нас доступ был строго ограничен.
Макет же здесь был нужен для испытаний всех систем – систем связи, маневрирования, изоляции и жизнеобеспечения. Это был корабль-призрак, точный до болта, и в то же время лишь тень настоящего, но именно ему предстояло стать нашим домом на ближайшие пять месяцев.
Я помнил, как однажды Масляков обмолвился, что технология создания «Радуги» оказалась сложнее, чем строительство атомных подводных крейсеров стратегического назначения. И я верил: глядя на этот корпус, чувствовал, сколько умов, рук и жизней вложено в этот металл.
По слухам, семь раз пытались проникнуть в систему – китайцы, французы, американцы. Хотели украсть хотя бы крупицу информации. Но ФСБ и военная контрразведка сработали безупречно. Одного агента взяли прямо у ограждения – тот оказал сопротивление и был застрелен. Остальных вывезли в наручниках. Об этом не писали в новостях, но мы знали – из тех коротких намёков, что проходили в кулуарных разговорах.
Секретность была тотальной. Наши семьи знали только одно: мы убыли на 150 дней в командировку, без связи, без права выхода в интернет, без звонков, без писем. Даже нам не сказали, в какой точке России мы находимся – лишь код объекта. Мы подписали документы, по которым любое разглашение информации считалось государственной изменой.
И, что самое удивительное, никто не возражал. Ни один из нас не попытался спорить, требовать или оправдываться перед родными. Мы понимали – всё это ради дела, ради прорыва, ради того, чтобы когда-нибудь кто-то на красной планете сказал: «Здесь были люди».
Вначале нас представили команде, которая будет обеспечивать наш полёт. В огромном конференц-зале, где воздух пах металлом, озоном и кофе из автоматов, собралась почти сотня человек – инженеры, биомедики, программисты, психологи, специалисты по радиосвязи, врачи, техники, электрики, операторские группы. На экранах за их спинами горели схемы, индикаторы, таблицы, словно вся Земля с её сложной машинерией сосредоточилась в этом одном месте. Каждый из них отвечал за свой участок – кто-то за телеметрию, кто-то за энергосистему, кто-то за поведение биометрических датчиков, а кто-то за анализ вашего настроения по тембру голоса.
Особое внимание уделили десятке человек, с которыми мы должны были быть на постоянной связи. Их называли просто – «диспетчеры прямого канала». Они сидели в отдельном зале управления, с круговой панелью экранов, на которых отображались все параметры – давление в шлюзах, температура в жилом модуле, уровень радиации, пульс и дыхание каждого из нас. Среди них были командир смены – подполковник Гордеев, врач-консультант доктор Хромова, инженер по системам связи Клюев, айтишник Орлов, специалист по биосфере корабля – женщина по фамилии Калинина, и ещё несколько человек, которые не отходили от пультов ни на минуту. Эти люди должны были стать нашими земными тенями, голосами из эфира – наставниками, психологами и, если повезёт, ангелами-хранителями.
Мы переглядывались – почти как перед полётом на орбиту. Серьёзные лица, короткие рукопожатия, дежурные улыбки. И всё же чувствовалось: за всем этим официозом – нервная дрожь, осознание, что даже имитация полёта может преподнести реальную опасность.
Пока мы пожимали руки членам группы, Масляков неожиданно подошёл ко мне сбоку и тихо, почти шепотом, сказал, наклонившись к уху:
– Может… ты получишь сообщение… можешь открыть без страха.
Я обернулся. В его голосе было что-то странное, будто тень тревоги. Глаза бегали – от пола к потолку, к экрану, к кому-то в толпе. Он избегал моего взгляда, говорил как человек, которому неловко, но который считает нужным предупредить.
– Что за сообщение? – спросил я, насторожившись.
Он отвёл глаза, щурясь, будто от яркого света.
– Ну… я просто сказал. Может, и не будет никакого сообщения, – произнёс он с натянутой улыбкой и сделал приглашающий жест рукой – входить под купол.
Я хотел было расспросить, но он уже шагнул вперёд, и вокруг нас зашумела техника, загудели подъемники, а гул голосов словно растворился в этом машинном дыхании.
В четыре часа дня мы вступили на борт макета. Ступень металлической лестницы отозвалась под ногой гулко, как под трапом настоящего корабля. Теоретически различий с оригиналом не было ни в одном миллиметре – всё до винтика соответствовало реальному галеону, который ждал своего часа на стартовой площадке «Сибири». Даже стоял он на настоящем стартовом блоке, уходящем в бетонный массив основания.
Согласно техническому описанию, «Радугу» должны были разгонять не привычные химические двигатели, а система электромагнитных ускорителей, вмонтированных в гигантскую рельсовую рампу, изгибающуюся вверх под углом 75 градусов. Когда корабль достигает трёх километров над землёй, включаются подъёмные плазменные двигатели – их мягкое, равномерное тяговое усилие позволяет поднять десять тысяч тонн металла, пластика и живой плоти на высоту в сто двадцать километров. Там, в верхних слоях атмосферы, вступают в работу маршевые ядерные газофазные реакторы, работающие на обогащённом уране-235 и гелии-3. Они выводят корабль на околоземную орбиту, а потом – на траекторию к Марсу.
Эта система исключала многие традиционные риски. Обшивка не перегревалась при старте, не разрушались стыки и гермозоны от вибраций и трения воздуха, экипаж не испытывал перегрузок. Всё было рассчитано на «мягкий космос» – длительный, размеренный, научный. Потери топлива были больше, зато обеспечивались безопасность и комфорт. Энергоресурсов в системе хватало на весь полёт туда и обратно, включая аварийные резервы.
Когда я проходил по коридору макета, чувствуя лёгкую вибрацию от работающих симуляторов, меня не отпускала мысль о странной фразе Маслякова. Что за сообщение? Почему он не смог сказать это прямо, почему так избегал моего взгляда? Может, просто хотел напугать – для проверки реакции? А может, и правда знал что-то, о чём нам было не положено знать…
Тем временем нам давали пояснения по старту. Всё происходило в огромном зале под куполом, где воздух звенел от напряжения, а на стенах вспыхивали лазерные указатели, вычерчивая в воздухе траектории и формулы. Голос инструктора отдавался эхом, будто говорил он не нам, а целому поколению будущих покорителей Марса.
– Горизонтальный взлёт – это идея не новая, – говорил он, глядя на нас поверх очков. – Её корни уходят во времена Второй мировой войны, когда австрийский инженер Ойген Зенгер создавал для Третьего Рейха проект суборбитального гиперзвукового самолёта-бомбардировщика под названием Silbervogel – «Серебряная птица».
Он щёлкнул пультом, и на экране возникли старые чертежи – тонкие, изящные линии, напоминавшие скорее мечту, чем боевую машину. По замыслу Зенгера, самолёт должен был стартовать с катапультной установки длиной три километра. Сам аппарат располагался на специальной стартовой тележке – «салазках», оснащённых собственными ракетными двигателями. В течение десяти секунд эта тележка разгоняла бомбардировщик до скорости около пятисот метров в секунду – полкилометра в секунду! – после чего срабатывали пироболты, и «Серебряная птица» отделялась, уходя в резкий набор высоты. Через тридцать шесть секунд включался её ракетный ускоритель, который работал до полного выгорания топлива.
– Теоретическая максимальная высота полёта, – продолжал инструктор, указывая лазером на диаграмму, – составляла двести шестьдесят километров. Фактически это уже ближний космос. Скорость – шесть тысяч четыреста метров в секунду. То есть пилот поднимался выше, чем кто-либо до Гагарина, и становился, пусть на короткое время, настоящим астронавтом.
Мы слушали молча. Я смотрел на эти чертежи и невольно ощущал лёгкий холодок – смесь восхищения и тревоги. Было что-то зловещее в том, как из военных разработок рождаются мирные технологии. Проект Зенгера, к счастью, так и остался на бумаге, не дойдя до стадии сборки. Но сам принцип старта – горизонтальный разгон с электромагнитной катапульты – оказался настолько рациональным, что именно его Роскосмос взял за основу для «Радуги».
Так должен был взлететь первый тяжёлый марсианский корабль – не вертикально, как прежние ракеты, а по взлётной рельсовой рампе, изгибающейся вверх под семидесятипятиградусным углом, – мягко, без рывков и катастрофических перегрузок, с точным расчётом до сотой доли секунды.
Когда я впервые увидел эту схему, то в голове вдруг мелькнула картина – будто мы уже сидим в кабине, чувствуем, как сжимает грудь от ускорения, а корабль отрывается от рельс и летит вверх, к звёздам, к Марсу, к безмолвной пыльной планете. Я поймал себя на этом и невольно усмехнулся: мечтать, конечно, не вредно… но лучше не сейчас.
Мы входили в шлюзовую камеру по очереди – первою шагнула Марина, следом я, за мной Сергей, и замыкал колонну Ашот, наш командир, высокий, уверенный, с каким-то ледяным спокойствием во взгляде. У входа толпились десятки сотрудников центра – инженеры, медики, операторы, техники, биологи, психологи, даже уборщицы и военные. Все махали нам руками, будто провожали не в подземный отсек, а в настоящий космос. В глазах у многих читалось напряжение, у кого-то – зависть, у кого-то – гордость. Над головами гудели громкоговорители, время от времени раздавались сухие команды, и воздух будто дрожал от чувства значительности происходящего.
Конечно, мы были не первыми, кто имитировал полёт на Марс. Ночью, не удержавшись, я действительно «погуглил», как сказал Масляков, и выяснил, что за последние шестьдесят лет в СССР, а потом и в России, Европе и США проводилось не меньше двадцати подобных экспериментов. Одни длились по нескольку месяцев, другие – почти по два года. В советские времена люди выходили из капсул с воспалёнными глазами, дрожащими руками и ссорами, едва сдерживаемыми у психологов. У кого-то начинались галлюцинации, один экипаж даже пришлось эвакуировать раньше срока – двое участников чуть не убили друг друга. В Европе эксперимент закончился разводом двух участников, а в НАСА одна из женщин-астронавтов подала рапорт об уходе, заявив, что «Марс – это не место для людей, пока они не научатся быть людьми».
Результаты были противоречивы, порой пугающие. Поэтому наш проект должен был стать не просто «очередной симуляцией», а финальной проверкой – последним фильтром перед реальным стартом.
От нас зависел успех всей программы. Если мы не выдержим – сломаемся, сдадимся, не протестируем бортовую систему как следует, – то экипаж настоящей «Радуги» столкнётся с тем, чего можно было избежать. И это означало не просто неудачу – а гибель людей, позор нации, поражение в новой космической гонке. Россия должна была выиграть её любой ценой.
На последней встрече Хамков, заместитель генерального директора корпорации, произнёс это открыто, с присущей ему металлической холодностью:
– Либо мы первыми сажаем человека на Марс, либо нас вычёркивают из истории.
После этих слов по залу пробежал ток – никто не осмелился даже кашлянуть.
Очутившись внутри галеона, мы двинулись по короткому коридору, освещённому мягким белым светом. Воздух был прохладным, с лёгким запахом озона и металла. Плавные линии стен, панели с бесконечными кнопками и сенсорными экранами – всё выглядело идеально, стерильно, будто мы вошли в живой организм, где каждая микросхема имеет своё сердце.
Мы прошли в центральный пост управления – сердце корабля. Люк за нами герметично закрылся с тяжёлым металлическим вздохом, и в тот миг пространство стало другим – замкнутым, безмолвным, отделённым от внешнего мира пятисантиметровой сталью. В отсеке стояли восемь кресел, расположенных полукругом перед огромным обзорным экраном. Четыре из них были сложены и закрыты прозрачными колпаками – места «призраков», членов экипажа, которых у нас не было. На каждом кресле – индивидуальная система фиксации, ремни, подлокотники с клавиатурой, встроенный интерфейс шлема и датчики состояния организма.
Пульты управления занимали всю переднюю стену: десятки мониторов, экранов, ламп, индикаторов и рычагов. Визуально это напоминало кабину «Боинга-747», только в десять раз сложнее и плотнее. Всё было продублировано: два автономных блока связи, три контура электропитания, четыре независимых навигационных процессора. Между ними тянулись жгуты кабелей, аккуратно уложенные в прозрачные каналы, а над нашими головами шелестели вентиляционные решётки, прогоняя прохладный воздух.
Я провёл ладонью по алюминиевой панели и ощутил лёгкую вибрацию – будто галеон уже жил своей жизнью, тихо дышал, ждал сигнала к пробуждению. Сердце забилось чаще. Мы вошли в корабль, но ощущалось – будто корабль вошёл в нас.
В любом случае, увиденное не могло не впечатлить тех, кто впервые вступал на борт этого корабля. Всё здесь дышало масштабом и силой человеческого разума – каждая панель, каждый экран, каждая гладкая металлическая линия словно говорила: ты внутри машины, которая может дотронуться до другой планеты. С этой минуты нас считали самостоятельной космической единицей – экипажем автономного судна, отделённого от Земли не только физически, но и психологически. Все внешние контакты теперь шли через диспетчерский центр, а любое действие, вплоть до движения руки, должно было быть зарегистрировано, подтверждено и выполнено по уставу.
Предстояло выполнить предстартовую операцию – целый ритуал, который больше напоминал не техническую процедуру, а старинное богослужение в храме машин. Мы должны были запустить всю бортовую систему, проверить готовность каждого механизма, протестировать герметичность отсеков, вентиляцию, состояние энергоцепей, а затем загрузить программы взлёта, выхода на орбиту и полёта к Красной планете. Сам старт был запланирован на 19:15 по местному времени, и до него оставалось всего три часа.
Главное отличие заключалось в самом принципе взлёта. Ни «Байконур», ни «Восточный», ни «Плесецк», ни «Капустин Яр» и даже «Морской старт» не имели ничего подобного. Там ракеты уходили в небо вертикально, дрожа от пламени и ревущего огня, а у нас предстоял разгон по рельсам, постепенный, мощный, почти бесшумный. Электромагнитная рельсовая рампа должна была поднять корабль под углом в семьдесят пять градусов, при этом его обшивка, массивная, с тысячами антенн, швов и выступов, не должна была испытывать разрушительного трения.
Эта схема позволяла сохранить конструкцию целой – именно потому стартовые площадки были построены по особому проекту, под «Радугу», под её сложную аэродинамику и неуклюжую, но гордую красоту.
Наша задача в тот день состояла в том, чтобы сымитировать этот разгон, от начала до отделения от «салазок». Я, конечно, подозревал, что воссоздать ощущение настоящего старта в стенах подземного полигона почти невозможно, и всё же нам обещали максимальную реальность: вибрацию корпуса, световые эффекты, акустические колебания, даже искусственное давление, имитирующее перегрузки.
Мы сидели в Центральном посту, или, как его официально называли, в командном отсеке. Здесь всё было предельно функционально и в то же время уютно – мягкий матовый свет, слегка приглушённый шум систем жизнеобеспечения, едва уловимый запах озона и нагретого пластика. Мы расположились перед своими пультами, закреплёнными в ряд, как на капитанском мостике океанского лайнера. В отличие от кораблей вертикального взлёта – «Союза», «Восхода», «Аполлона», где космонавты лежат полусидя, прижимаемые к спинкам кресел тягой ускорителя, – здесь мы сидели как люди, прямо, лицом к приборам. Это и была первая особенность «Радуги»: горизонтальный старт требовал горизонтального положения экипажа.
На МКС и старых станциях «Салют» не существовало ни потолка, ни пола, ни стен – в невесомости всё теряло смысл, и космонавт мог повернуться как угодно. Но на «Радуге» всё было иначе. Искусственная гравитация создавалась за счёт вращения центрального блока и уравновешивающих гироскопов, благодаря чему внутри царило привычное ощущение веса. Мы могли ходить, стоять, садиться, держать кружку с кофе, не опасаясь, что жидкость улетит в потолок.
Это придавало кораблю особое, почти земное чувство обитаемости. Всё было рассчитано на жизнь, а не на выживание: ровные стены, мягкие панели, удобные кресла, лёгкая вибрация пола, которую я ощущал подошвами ботинок. Основные мониторы располагались перед нами и по бокам, на консольных пультах. Каждое устройство имело собственную подсветку, мягкую, янтарно-зелёную, словно свет от свечей. На экранах побежали первые строки кода, мигающие символы, графики диагностики систем.
Тем временем диспетчеры в Центре следили за каждым нашим движением. Их голоса звучали в наушниках спокойно и отстранённо, но за этой внешней холодностью чувствовалось напряжение сотен людей. В отдельном зале, за стеклом, операторы контролировали синхронность наших действий, сверяли данные с телеметрией. Каждый нажатый мной переключатель фиксировался в журнале, каждый ответ дублировался в звуковом канале и текстовом лог-файле.
Корабль и Тестово-испытательный центр работали сейчас как единое тело – две половины одного мозга, соединённые сетью кабелей, датчиков и радиоволн. Мы были живыми нейронами этой машины, и любое несогласованное движение могло привести к сбою.
Секунды шли, экраны светились ровно, без помех. Я поймал себя на мысли, что впервые в жизни чувствую не тревогу, а какое-то странное, почти религиозное спокойствие. Впереди было три часа до старта – и вся Вселенная, затаившая дыхание, будто ждала, что мы нажмём первую кнопку.
– Давление в баках с горючим – в норме… Кислород – в норме… Электропитание – в норме… Атомный реактор – стабильный… Двигатели взлёта – в норме… Маршевые двигатели – в норме… Напряжение в конструкции – в норме… Герметизация – в норме… – один за другим выдавали мы отчёты, снимая показатели с приборов и сверяя их с данными компьютеров. Голоса звучали спокойно, даже чуть механически, но за каждым словом стояла точность, доведённая до автоматизма. Каждая строчка подтверждения уходила сразу в Центр – там сидели диспетчеры, которые получали эти же данные напрямую через свои кибернетические схемы, но требовали от нас дублирования – таков был регламент.
Это не просто ритуал; это способ проверить, человек ли ещё в контуре, способен ли он контролировать, а не полагаться слепо на автоматику. Все системы должны были пройти через живое слово.
В отсеке стояла сухая тишина, нарушаемая только щелчками переключателей и ритмичным гудением вентиляторов. Мы говорили по очереди, почти без эмоций – будто хор из четырёх голосов, механический, но удивительно слаженный. За каждым из нас закреплён собственный сектор контроля, и всё, что не укладывалось в «норму», сразу превращалось в потенциальную угрозу.
Я чувствовал, как по позвоночнику ползло лёгкое напряжение – не от страха, а от ответственности. За каждым прибором стояла чья-то жизнь, чья-то инженерная идея, десятки лет труда, миллионы рублей, и всё это теперь зависело от того, насколько правильно я произнесу одну короткую фразу.
Уверен, что видеокамеры стояли повсюду – не только в центральном посту, не только в жилых отсеках, но и, прости Господи, даже в туалетах. Мы это знали, хотя официально нам об этом никто не говорил. Легче было сделать вид, что не замечаешь. Камеры встроены в панели, под светильники, в вентиляционные решётки. Они фиксировали всё – движение, голос, мимику, ритм дыхания.
Для меня это было неприятно. Я не люблю, когда за мной подглядывают, даже если это во имя науки. Человеку нужно хотя бы крошечное пространство, где он может остаться сам с собой – но, видимо, не в имитации. Здесь всё было под контролем: шаг, слово, взгляд. Утешением служило лишь одно – наблюдать за нашей жизнью будет узкий круг специалистов, людей, привыкших видеть человека не как личность, а как объект исследования.
Сама по себе работа была изматывающей. Учитывая размеры корабля и плотность информационного потока, мы буквально утопали в цифрах, графиках и кодах. На каждом мониторе – отдельная система: термоконтроль, энергия, радиация, связь, гидравлика, жизнеобеспечение. Десятки окон, каждое со своей шкалой и своим риском. Глаза болели от постоянного чтения строк, от мелькания индикаторов, и всё равно нельзя было оторваться – один пропущенный параметр мог привести к сбою, а сбой – к катастрофе.
В кабине стояло лёгкое жужжание – звук живого, работающего организма. На стенах сверкали ряды лампочек, переливались графики, тихо шелестели принтеры, выплёвывая тонкие полоски с отчётами. На больших экранах – обзорные камеры, подключённые к внешним и внутренним секторам. Мы видели всё: коридоры жилого модуля, технические отсеки, центральный шлюз, резервные баки, а также окружающее пространство полигона.
Да, иллюминаторы у нас были, но ими никто не пользовался – их просто заварили. Таковы были указания. Один из инженеров как-то объяснил:
– Смотреть на вращающееся небо – дело рискованное. Человеческий мозг не приспособлен к тому, чтобы видеть звёзды, летающие кругами. Это вызывает тошноту, головокружение и потерю ориентации. Психологи настоятельно рекомендовали исключить любые подвижные визуальные раздражители. Вам дадут статичную картинку на мониторах – и не переживайте, она ничем не хуже настоящего космоса.
Он говорил с улыбкой, но я видел, что в его словах нет иронии. И действительно, на экранах перед нами уже светились электронные изображения – чёрное небо, неподвижные звёзды, контуры Марса, словно нарисованные рукой художника. Всё это выглядело убедительно, даже красиво, но я понимал: мы смотрим не в космос, а в систему имитации. Безопасно, стерильно и психологически правильно.
И всё же инженер был прав и в другом. Стекло иллюминаторов, каким бы прочным оно ни было, не могло гарантировать защиту от солнечного ветра – потока частиц, несущих энергию от 10 до 100 МэВ, достаточную, чтобы разрушить ДНК. Да, сплав корпуса «Радуги» был рассчитан на чудовищные нагрузки и радиационные бури, но проверить это в действии могли только настоящие астронавты, не мы.
Иногда я думал с лёгким злорадством: пусть уж им достанется эта честь – лететь сквозь солнечный ад. После истории в баре моё отношение к их «настоящему экипажу» было не то чтобы враждебным, но уж точно – не благоговейным.
С другой стороны, без иллюминаторов мы не видели бы, что всё это лишь декорация, полигон, бетонные стены, прожекторы. И, может быть, это было к лучшему. Пусть мозг верит, что мы действительно в космосе. Земля – пусть подождёт.
На экране Геннадий Андреевич появился с выражением напряжённого волнения: глаза слегка расширены, брови приподняты, губы сжаты в тонкую линию, руки сжаты в кулаки, а лёгкая дрожь в плечах выдавала внутреннее волнение. Он пытался скрыть это профессиональной серьёзностью, но даже через экран ощущалась сдерживаемая тревога – словно он одновременно радовался и боялся за нас.
– Предупреждаю, мы запустим вам на мониторы имитацию старта. Вы испытаете перегрузку, а для этого раскрутим «колесо», но не беспокойтесь, всё в рамках предусмотренного…
– Хе, только не переусердствуйте в реалистичности, пожалуйста, – хмыкнул Ушаков. – А то в штаны наложим!
– Сергей! – возмущённо вскрикнула Марина, слегка стукнув его по спине. Она сидела сбоку и сзади него, за пультом медицинского контроля. В наши комбинезоны были встроены датчики: отслеживались частота сердечных сокращений, давление, насыщение крови кислородом, мышечная активность, электрическая проводимость кожи, температура тела и даже микровибрации дыхания. Я был уверен, что моё учащённое сердцебиение и лёгкое дрожание рук она видела на экране, потому что сказала:
– Анвар, дыши спокойно, потребляешь много кислорода…
– Есть, могу вообще не дышать, – буркнул я, стараясь скрыть лёгкое волнение. Ей ли объяснять, что испытывает человек, которому предстоит совершить имитационный старт?
К семи часам все процедуры были завершены. Готовность была стопроцентная. Осталось последнее. Пока было немного времени, я быстро сбегал в туалет и спустил содержимое мочевого пузыря в специальный песьюар – моча, как я знал, потом будет переработана в питьевую воду и подана нам снова. Вернувшись в центральный пост, я сел в своё кресло и пристегнулся ремнями безопасности. На табло отсчитывалось время: 19.13.