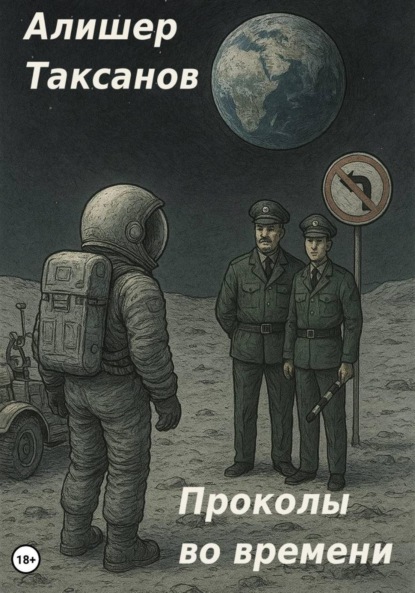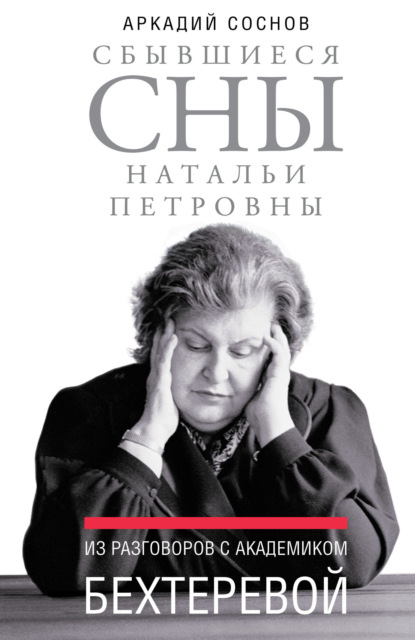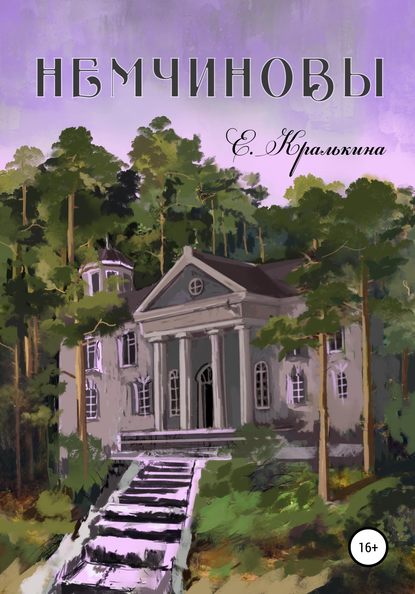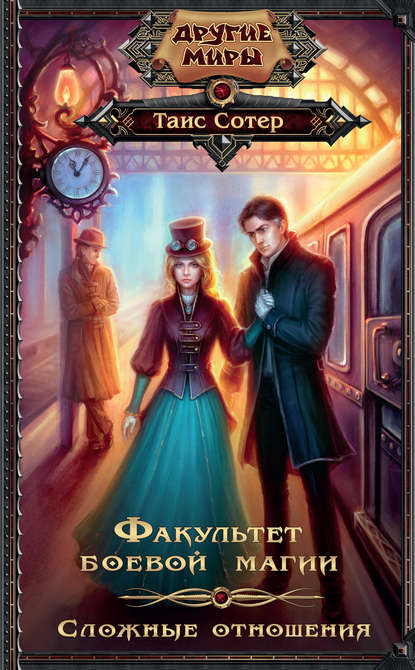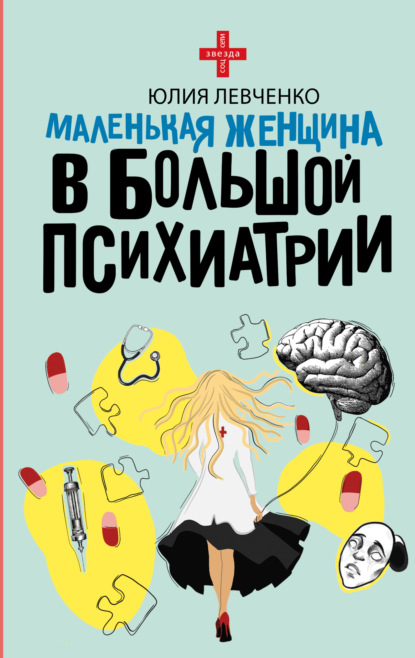- -
- 100%
- +
Фернанда почувствовала, что теперь начинает понимать: почему это место и город считались священными для инков. Скорее всего, они знали о грандиозной сущности, пришедшей с других миров, и приходили сюда поклониться духам, совершить ритуалы. Возможно, во время дрейфа континентов многогранник ушёл под слои грунта, и именно поэтому его не обнаружили ранее.
Офицер связался с правительством кантона, и чиновники начали дипломатические каналы, привлекая внимание мирового научного сообщества и подготавливая экспедицию для раскопок монолита. Чтобы ускорить процесс, Фернанда поспешила на телевидение SF-1, где её пригласил журналист с дружелюбной улыбкой и камерой, уже настроенной на прямой эфир.
– Фернанда, расскажите нашим зрителям, что именно вы видели, – начал ведущий.
Девушка подробно объяснила сражение инопланетян, их технологию, огромный многогранник и то, как она прикрепила к нему индикатор. Камеры показывали её руки, словно возвращая зрителей в прошлое, а графика на экране визуализировала боевые сцены и масштабы монолита. В глазах Фернанды читалась смесь восторга, страха и ответственности: это был не просто рассказ – это было предупреждение и научный сигнал одновременно.
Эфир вызвал настоящую мировую сенсацию. Люди по всему миру вздрогнули от услышанного, сторонники теории палеоконтактов и НЛО радовались, как дети, скептики пытались опровергнуть услышанное, но их аргументы рушились, когда через месяц действительно раскопали монолит. Он находился в ста метрах от Мачу-Пикчу, на глубине пятидесяти метров, погружённый в землю и окружённый древними террасами, словно природа и история тщательно охраняли это чудо.
Он был цел, только иногда на его гранях появлялось мягкое голубое свечение. Оно возникало спорадически, совпадая с моментами «прокола» времени – тогда, когда случайные люди уходили в прошлое и возвращались обратно. На поверхности многогранника учёные обнаружили индивидуальный индикатор Фернанды, что ещё раз подтверждало правдивость её рассказа и позволило связывать научные наблюдения с её личными свидетельствами.
Чуть позже девушку пригласили в Перу, где с ней встретился профессор физики из Цюрихского университета Генрих Шмидт – мужчина лет пятидесяти, с аккуратной седой бородой, глубоко посаженными глазами серого цвета и неизменно строгим выражением лица. В работе он был педантичен, внимателен к деталям, при этом обладал редким умением объяснять сложные технические процессы простым и понятным языком. Генрих Шмидт возглавлял программу по изучению инопланетного объекта от швейцарского правительства и лично курировал связь науки с международными силами охраны монолита.
С его слов, охрану объекта обеспечивали армии Перу, США, Германии и Украины. Решение было принято коллективное: секреты инопланетян должны стать достоянием всего человечества, а не отдельного государства. Уже само понимание того, что в космосе происходят войны, должно было насторожить людей и подготовить их к любым возможным негативным событиям из глубин Вселенной. Это стало поводом для координации и сотрудничества между странами, включая тех, кто в обычных условиях считался противником. Так, прекратились гражданские войны в Африке, угасли партизанские движения в Латинской Америке, а Израиль с Палестиной заключили временное перемирие. Москва и Вашингтон подписали соглашение о взаимном ненападении и совместных действиях по отражению потенциальной инопланетной угрозы.
– Неважно, это было сто пятьдесят миллионов лет назад, или миллиард, или вчера, – произнёс герр Шмидт, сидя с Фернандой в полевом кабинете на высоте почти три тысячи метров. Кабинет был уютным, оснащённым всем необходимым для работы и жизни на вершине: стол с приборами, ноутбуки, портативные лабораторные приборы, радиостанция и небольшая мини-кухня. За окном простирался хребет Анд, а внизу течёт река Урубамба, её воды сверкают в лучах солнца. Склоны покрыты редкой растительностью – кустарники, низкорослые деревья и мхи, между которыми пробиваются камни. Воздух холодный и сухой, пахнет минералами и травами, а вокруг – изумительный вид на извилистые горные долины, террасы древних инков и облака, что медленно скользят по склонам, создавая впечатление, будто земля парит в воздухе.
Вести археологические и технические работы на такой высоте было непросто: приходилось учитывать нехватку кислорода, перепады температур, ограниченные ресурсы и труднодоступность местности. Но все затраты окупались открытиями, которые совершались ежедневно: каждый день приносил новые сведения о монолите, его конструкции и возможностях.
– Космос полон жизни, причем не всегда миролюбивой, если судить по вашему рассказу, – продолжал профессор, делая глоток кофе. – Но вы правы, обнаружив связь между монолитом и «проколами». Похоже, после миллионов лет «спячки» машина самовключилась, но работает не полностью. Некоторые механизмы повреждены или законсервированы, поэтому монолит функционирует в холостом режиме. Энергии достаточно, чтобы «дырявить» время в отдельных частях планеты, и именно в моменты всплеска происходят падения людей в прошлое и их возвращение. Пока мы не определили частоту работы и географию воздействия, иначе могли бы заранее вычислять опасные участки. Впрочем, многое уже известно, и в ближайшие недели мы сможем отключить инопланетную машину.
– А почему это происходит? – осторожно спросила Фернанда, не сводя глаз с монолита.
– Мы сейчас разрабатываем теорию, объясняющую возможность движения из настоящего в прошлое и обратно – в будущее, – ответил профессор, наклонившись над схемой на столе. – Всё укладывается в рамки Теории относительности Эйнштейна, с небольшим расширением для экстремальных энергий. Если кратко: пространство-время – это единая ткань, и сильные искривления, создаваемые массивными объектами или энергетическими потоками, способны формировать «коридоры» между разными временными координатами. Многогранник излучает энергию, которая локально искривляет пространство-время, создавая области, где временная линия размыта. Любой объект или человек, попавший в такой «коридор», может переместиться в прошлое или вернуться в будущее, при этом его физическая оболочка остаётся относительно стабильной, потому что пространство вокруг подстраивается под него. В теории, если вычислить параметры монолита – силу его поля, географические координаты и фазу работы, можно предсказать новые «проколы».
Однако профессор сделал паузу и посмотрел на Фернанду с серьезным выражением:
– Но вот что касается самого монолита, – продолжил он, – я предполагаю, что это оружие.
Фернанда удивилась:
– Что? Почему так думаете?
– Это машина, которая должна была превратить наше Солнце в «черную дыру». Можно сказать, мега-бомба, – сказал Шмидт, показывая на график, где энергия монолита концентрировалась в ядре звезды. – Появление такого космического монстра привело бы к мгновенной дестабилизации системы: гравитационные поля вокруг Солнца усилились бы, внутренние планеты начали бы колебаться, орбиты разрушались бы, а ближайшие звезды – в пределах нескольких световых лет – также подверглись бы катастрофическому воздействию. Поток радиации и гравитационные аномалии мгновенно уничтожили бы любую жизнь поблизости.
– Отсюда я делаю вывод: – продолжил профессор, – паукообразные, победившие тогда в схватке с четверорукими, жили где-то поблизости, может, у Альфа Центавра или Летающей Барнарды. Они осознавали угрозу и поэтому предприняли всё, чтобы отключить монолит. А вот откуда их враги и почему произошла война – мы этого не знаем. Впрочем, со временем, я уверен, узнаем…
– Думаете, они существуют до сих пор? – с тревогой спросила Фернанда, облизнув сухие губы. Её взгляд невольно устремился к солнцу, и в воображении возникла страшная картина: звёздный диск постепенно сжимается, центр темнеет, как будто поглощён невидимой силой, свечение меняет цвет на синий и фиолетовый, солнечные вспышки превращаются в хаотичные энергетические разряды, в итоге Солнце исчезает, оставляя после себя маленькую, но ужасно плотную точку – чёрную дыру, вокруг которой искривляется свет, орбиты планет мгновенно рушатся, а Земля и её соседи безжалостно втягиваются в это невидимое чудовище. В сердце Фернанды пронеслась дрожь: даже мысль о таком конце была кошмаром, каким реальнее не бывает.
Профессор покачал головой, оттянулся на стуле и посмотрел в окно, где над террасами Мачу‑Пикчу лениво кружились кондоры. Их полёт был величественным и бесшумным: крупные тёмные крылья, размахом семь и больше метров, плавно разрезали воздух, то опускаясь в низкий участок долины, то снова подхватываяся на тёплых восходящих потоках. Тени этих птиц, застыв на каменных плитах, казались древними рунами, приносившими благословение или предвестие – у Фернанды мелькнула мысль о том, как часто люди искали знаки в поведении природы. Кондоры, привыкшие к горным ветрам, парили кругами, то и дело подхватывая термику, и их крик – протяжный, горловой – разрезал утреннюю тишину, придавая произошедшему ощущение величественной ретроспективы: мир продолжал жить своими законами, независимо от пришельцев, монолитов и человеческих страхов.
– Маловероятно, – наконец тихо произнёс профессор. – Цивилизации не могут существовать сотни миллионов лет в том виде, в каком мы их понимаем. Им свойственны цикл развития, расцвет и упадок; звёздные системы меняются, ресурсы иссякают, катаклизмы случались и случатся. Вероятно, та раса, что устанавливала или следила за монолитом, вымерла задолго до наших дней. Но это вовсе не означает, что во Вселенной нет других разумов. Напротив, монолит – окно в иное понимание природы пространства-времени; он позволит нам изучить принципы, которые до сих пор считаются чистой теорией. Изучение его даст нам шанс разработать принципиально новые способы перемещения в пространстве.
Он сделал паузу, помешивая оставшийся кофе, и продолжил, уже более бодро: – Представьте себе: если монолит действительно формирует локальные искривления пространства – «коридоры» между временными координатами – то мы можем научиться воспроизводить аналогичные эффекты искусственно. Это откроет путь не к долгим годам полёта в межгалактических масштабах, а к переходам через подпространственные каналы – кротовые норы, если угодно – где путь между отдалёнными точками сократится от эонов до часов или суток. Не нужны будут километры топлива и вековые программы космических миссий; нужны будут новые двигатели, новые источники энергии и устройство, позволяющее стабилизировать проход. Возможность такая реальна теоретически, и монолит даст нам практические подсказки.
Он улыбнулся, но это было сдержанное, научное удовольствие, не радость ребёнка: – Я уверен, что такие технологии станут доступны со временем многим государствам, затем корпорациям, а потом – людям в целом. Космос перестанет быть уделом нескольких держав; он станет общим пространством человечества. Это невероятно воодушевляет.
Но улыбка тут же потускнела, и в голосе профессора зазвучало предупреждение: – Но!.. – Он поставил чашку на стол и вновь уставился на Фернанду серьёзным взглядом. – Следует помнить, монолит – это и оружие, и инструмент. В руках неосторожных или враждебных сил он может стать детонатором. Запустить его «в полную мощность» – значит вызвать цепочку событий, которая разрушит всю локальную систему: наше Солнце может быть сжато, и последствия этого будут катастрофическими. Нам нужно работать с предельной осторожностью, разрабатывать меры предохранения и международные механизмы контроля. Никто из нас не должен допустить, чтобы в спешке или из корыстных соображений кто‑то нажал на кнопку.
Фернанда чуть прищурилась, проследив взглядом за ещё одним кондором, который на мгновение завис над каменными ступенями и словно осмотрел долину, прежде чем удалиться: мысль о масштабах возможной угрозы была страшна, но в ней же таилось и приглашение. Она улыбнулась слабой, собранной улыбкой – улыбкой человека, который не может отказаться от вызова.
– Тогда я буду в числе первых звёздопроходцев, – сказала она, и в её голосе не было ни театральной самоуверенности, ни легкомыслия; это было спокойное решение, прозвучавшее как ответ на зов, который всплыл в ней ещё в ту минуту, когда она впервые ощутила холод монолита под ладонью. Ее слова отозвались где‑то глубоко: быть теми, кто проложит дорогу в новые миры, и в то же время – бережно охранять то знание, которое может изменить судьбу не только отдельной нации, но и всего человечества.
– Конечно, – произнёс профессор с лёгкой улыбкой, – ведь именно благодаря вам мы узнали о существовании монолита и теперь предпринимаем все меры, чтобы прекратить эти «проколы». Хотя наши историки и палеонтологи лютуют, ведь прошлое – это их хлеб. Мы лишаем их куска работы и славы, – и он засмеялся, откидываясь на спинку кресла, смех был тихий, но искренний, слегка отражался от стен кабинета.
– А ваше? – поинтересовалась Фернанда.
– А моё – будущее. – Профессор снова улыбнулся, теперь уже с оттенком азартного энтузиазма. – Я намерен на основе технологий этого монолита разработать принципы мгновенного перемещения в пространстве, так сказать, телепортации. Мои коллеги размышляют над конструкцией машины времени, чтобы путешествовать по галактическим эпохам, вплоть до Большого взрыва, породившего Вселенную.
Он продолжал рассказывать, но Фернанда уже не слушала каждое слово, её взгляд тянулся к окну, к Мачу‑Пикчу и к гигантскому многограннику, едва различимому на склоне горы. Многогранник слегка светился холодным голубым светом, мерцал в полумраке кабинета, но теперь это уже не пугало девушку. Пистолет на поясе напоминал о реальности, о необходимости быть готовой к неожиданностям – к внезапному «падению» в мезозойскую эру или к встрече с любым другим хищником. И всё же в сердце Фернанды жила уверенность: та редкая удача, что была с ней на протяжении всех её путешествий, давала шанс человечеству наконец открыть дорогу в далекий космос. Она уже представляла себя в числе экипажа нового звездолета, готового к открытиям, исследованиям и опасностям. Главное – остаться живой до этого момента.
И тут всё словно завертелось вокруг неё. Она успела увидеть испуганное и изумлённое лицо профессора: глаза расширились, брови высоко поднялись, губы слегка разжались, и на мгновение в них отразилось почти детское изумление – смесь страха и восторга, словно он только что увидел невозможное и одновременно понимал всю серьёзность происходящего.
Когда Фернанда очнулась, мир вокруг изменился. Это уже не была Земля – это был Марс. Полмиллиарда лет назад он ещё не успел стать сухим и красным, но климат уже начинал терять свои благоприятные черты. Атмосфера была плотнее, чем сегодня, но тонкой в сравнении с Землей; ветер шевелил редкие кустарники, а вдалеке виднелись выветренные каньоны и холмы, прорезанные древними потоками. Пыль переливалась в оранжево-красных тонах, а небо было бледно-розовым с лёгкой сиреневой дымкой.
На горизонте она заметила второй монолит – массивный, чёрный, почти такой же огромный, как и тот, что на Земле. Четырехрукие инопланетяне вновь были заняты его возведением: их движения были точными, слаженными, будто они действовали по давно отлаженной схеме, и с каждым шагом структура медленно поднималась, соединяясь с поверхностью планеты. Ладони, заканчивавшиеся пальцами-манипуляторами, сверкали в полумраке, а их тела обтянуты тёмными костюмами, отражавшими слабое марсианское солнце. Фернанда затаила дыхание – всё это выглядело одновременно величественно и пугающе, ведь она понимала, что ей предстоит наблюдать не просто технику или архитектуру, а проявление чужой цивилизации, способной формировать миры.
«Вернусь ли я на Землю», – пронеслась в голове мысль, короткая и остро-ледяная. На долю секунды от страха затрясло всё тело, но вместо паники пришло удивительное спокойствие: в глубине сознания Фернанда почувствовала, что её перемещение сюда было не случайностью. Монолит на Мачу‑Пикчу не просто создал «дыру» в пространственно‑временном континууме – он выбрал её. Он направил её сюда, и сделал это целенаправленно. Словно тонкая нить причинно‑следственных связей была привязана к её жизни, и каждая её судьбоносная поступь могла теперь тянуть за собой события на гигантских временных дистанциях. Она ощутила себя узлом в паутине вселенной: маленькой, хрупкой, но от неё зависело больше, чем ей казалось вчерашним утром.
Страх отступил, уступая место странной ясности. Мысли о доме, о городе и о родных растворялись – впереди была задача, и она казалась единственно реальной. Внутри всё сжалось и укрепилось; память о чёрном многограннике, о синем свечении и взрывчатых импульсах вернулась с новой остротой. Фернанда поняла: монолит не только «дырявит» время – он связывает миры, и то, что было сделано в одном уголке вселенной, отзывается в другом. Кто‑то или что‑то использовало этот механизм не только для перемещения материи, но и для смыслов, для посылов, возможно, для контроля. И если она – случайный, но заметный элемент этой сети – значит, у неё есть шанс вмешаться в ход вещей.
Она глубже сжала «Магнум», его холодный металл впился в ладонь, и это прикосновение, простое и осязаемое, вернуло ей человеческую хватку реальности. Сердце забилось ровно, дыхание стало медленнее – не от усталости, а от готовности. Голос в голове, который раньше шептал о бегстве и осторожности, отступил, уступив место иному приказу: действовать. Она вспомнила все уроки выживания, все мелочи, которые вырабатывают инстинкт – не двигаться без надобности, оценивать угрозу, находить слабые точки. Но это был не просто инстинкт – это была решимость.
«Тогда мой черед начинать схватку», – сказала она вслух, тонко улыбнувшись самому себе своему вызову, и подошла к краю небольшой возвышенности. Внизу, среди марсианского песка и редких скал, двигались их фигуры: четырёхрукие инопланетяне, занятые монтажом второго монолита, ещё не обратили внимания на появление человеческой фигуры. Их тела, высокие и гибкие, были покрыты чёрными костюмами с переливчатой поверхностью; четыре длинные руки сходились в складных механизмах, пальцы‑манипуляторы нежно касались пластин конструкции. Их головы были слегка наклонены к панели, и в слабом марсианском свете пробегали индикаторы – холодные точки информации.
Фернанда двинулась вперёд тихо, почти бесшумно для человеческого уха; тонкий марсианский ветер подхватил её запах, и песчинки шуршали у её ботинок. Каждый шаг был рассчитан: не бежать, не кричать, не делать резких движений, которые выдавали бы её местоположение тем, кто мог различать мельчайшие колебания пространства. Но за её спиной теперь не было ни библиотек, ни родных улиц – только два монолита, две цивилизации и выбор, который она сделала сама. Она знала, что противники будут сильны, что технология их рук опасна, но знала и то, что если не вмешается кто‑то с человеческой сообразительностью и наглостью, миры могут стать ареной чужих войн под угрозой уничтожения.
Фигуры четырёхруких замерли, как только один из них поднял голову – в их шлемах загорелись внутренние огни, и из приборов послышался лёгкий металлический треск. Они увидели её. На мгновение пространство между ними словно натянулось: взгляд человека и взгляд чужого встретились на пустынном марсианском поле. Фернанда почувствовала, как в груди разливается холод и жара одновременно – страх и острое предчувствие действия. Она переставила револьвер в боевую стойку, вдохнула и шагнула навстречу неизведанному. Те, кого она знала лишь из легенд и разорванных хроник, уже не были «тем, кого нет»; они стояли перед ней, в буквальном смысле времени и пространства, и сражение начиналось…
(20-22 мая 2013 год, Элгг,
Переработано 19 октября 2025 года)
ЗОМБИАДА
(Рассказ ужасов)В тот день я с группой своих товарищей, как обычно, дежурил в Ташкентском метрополитене – в этой подземной паутине мрамора, стекла и эха, где воздух пахнет озоном, железом и старым бетоном. Станции метрополитена, построенные ещё в советские годы, были не просто транспортными узлами, а своеобразными подземными дворцами: своды, украшенные резьбой и мозаиками, колонны с узорами под хивинскую керамику, прохладные тоннели, откуда веяло тяжёлой, но надёжной тишиной. В последние месяцы напряжённость в столице заметно спала – террористических угроз больше не поступало, митинги рассосались, и даже торговцы на Чорсу стали улыбаться чаще. Город словно выдохнул. Вызовы по чрезвычайным ситуациям почти прекратились, жизнь стабилизировалась, стала мирной, ритмичной, как утренний звон азана над крышами махаллей. Но мы всё равно не позволяли себе расслабиться: Ташкент, сколько его помню, всегда таил в себе способность удивлять – и не всегда приятно.
Во вторник утром я находился в оружейной и чистил автомат – старый АКС-74У, верный, с вытертой краской на прикладе и запахом машинного масла. В голове крутились всякие мысли: о дочке, которая ждёт меня дома с пирожками, о новой форме, которую обещали выдать, да и просто о том, что бы съесть на обед. В соседней комнате мои товарищи, человек пять, сидели перед телевизором, уткнувшись в унылую новостную передачу «Ахборот». Репортёр с непоколебимым выражением лица рассказывал о строительстве атомной станции в Бухарской области – мол, уже заложен фундамент реактора, и через пару лет появятся новые гигаватты энергии для кишлаков, которые до сих пор топят кизяком. На фоне – кадры: пустыня, белые каски, башенные краны, и блестящий, словно из советского плаката, министр, уверенно говорящий о «светлом будущем энергетики». Мы слушали вполуха, больше из привычки, чем из интереса.
Я уныло глядел на часы, мечтая дотянуть до обеда – вырваться наружу, вдохнуть пыльный, горячий воздух осеннего Ташкента и дойти до «Мак-Дональдса» напротив «Пушкинской». Там всегда пахло жареным маслом и чем-то американским – смесью свободы и холестерина. Я представлял, как сажусь у окна с подносом, где парит гамбургер и шуршит пакет картошки-фри, а пластмассовая крышка стакана дрожит от пузырьков колы. Мои же товарищи, истинные сыновья Востока, уже грезили другим – ошхоной, где в казане шипит плов, тёплый, жирный, с кусочками мягкого баранины, золотистым морковным блеском и горкой изюма. Они говорили о нём с почти религиозным почтением, облизываясь при одном воспоминании. Один мечтал о патырах, только что вынутых из тандыра, другой – о дымящемся зелёном чае в пиале, третий – о салате «аччик-чучук», и от этих разговоров в оружейной стало почти невыносимо голодно.
Но наши гастрономические грёзы оборвались в одиннадцать утра, когда по рации прозвенел сигнал тревоги – короткий, резкий, как удар ножом по металлу. Мы вскочили одновременно, привычно, без слов. Каждое движение было отточено годами дежурств: защёлкиваем разгрузки, проверяем магазины, надеваем каски, хватаем автоматы, аптечки, рации. Воздух в оружейной стал густым, пахнущим порохом, потом и тревогой. В коридоре уже раздавались шаги, кто-то крикнул, что дежурный бежит с перрона.
И вот показался он – Хошимбой-ака, наш старый знакомый, дежурный по станции. Худощавый хорезмиец лет пятидесяти, с острым носом, морщинистым лицом и добродушными, но сейчас округлившимися от ужаса глазами. Его маленькая чёрная тюбетейка съехала набок, лысина блестела от пота, рубашка прилипла к спине. Он размахивал руками, как мельница, и голос его сорвался до визга:
– Позвонил машинист! В вагоне – зомби! Зомби-и-и-и!
Это слово, неожиданное, абсурдное, словно из дешёвого фильма, на секунду повисло в воздухе, и будто всё вокруг застыло. Но через миг по станции прокатился гул – не от поезда, а от людских криков. Пассажиры, услышав что-то страшное, рванули в разные стороны. Женщины вопили, хватая детей, мужчины пытались прорваться к эскалатору, кто-то упал, кто-то потерял сумку. Слышались крики:
– Вай-дод! Спасите! Помогите! Ёрдам беринлар!
Грохот шагов, визг тормозов, плач, звон разбитого стекла – всё смешалось в один адский шум.
Часть наших ребят кинулась к толпе, пытаясь организовать эвакуацию. Кто-то перекрывал тоннели, чтобы ни один поезд не прошёл дальше. Сирена выла, как раненое животное, заставляя сердца биться чаще. Под ногами дрожала плитка, свет мигал, а воздух вдруг стал тяжёлым, с металлическим привкусом, будто сама подземка предчувствовала, что скоро ей придётся стать ареной чего-то, с чем никто из нас раньше не сталкивался.
И я понял: спокойные месяцы закончились. Начиналось что-то совсем другое.
На этом ментовская работа заканчивалась. Дальше начиналась наша – военизированной группы Министерства здравоохранения по уничтожению зомби. Да, именно так – здравоохранения. Когда человечество поняло, что медицина больше не лечит, а лишь утилизирует заражённых, пришлось создать новый тип санитаров – вооружённых, закалённых, морально мёртвых внутри. Мы называли себя «санбат-9». У нас были камуфляжные халаты с красными крестами, бронежилеты под медицинскими жилетами, автоматы с маркировкой «дезинфектор», ампулы с зажигательной смесью вместо антисептиков. Мы не носили значков, только номера на шлемах. Наши лица редко улыбались, глаза привыкли смотреть на трупы, которые ещё минуту назад дышали. Мы не герои и не спасатели – скорее, крематоры, чистильщики, те, кто идёт туда, куда врачи не успели. Мы были последним барьером между городом и чумой, последней линией, после которой начинался конец.