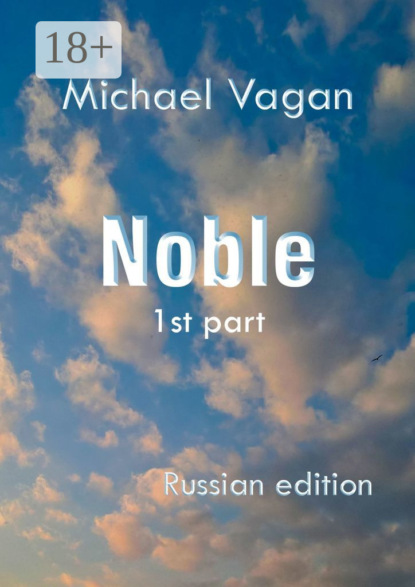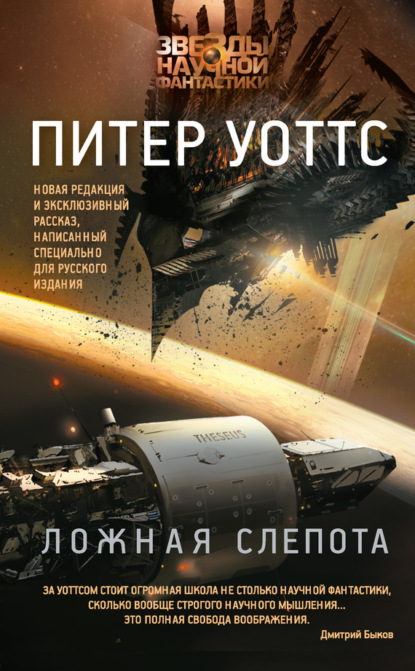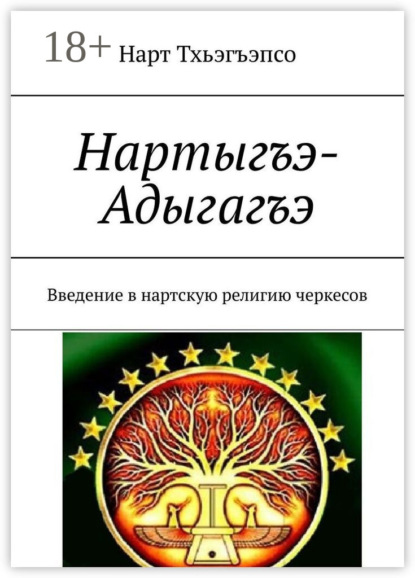Восход Войны

- -
- 100%
- +
Воины Эйрика растянулись вдоль улиц. Кто-то громко смеялся, срывал с головы шлем и кидал его на землю, кто-то требовал вина, кто-то начинал петь боевую песнь. Их гул и звон оружия разрывали тишину, но никто из жителей не ответил им ни словом.
Один из стариков сделал шаг вперёд. В руках он держал глиняную миску с чёрным хлебом. Его пальцы дрожали так сильно, что крошки падали на землю. Он поднял миску над головой и опустился на колени.
За ним двое других протянули вино и соль. Женщина положила у ног Эйрика корзину с яблоками, но глаза её были прикованы к земле.
– Прими, – пробормотал старик, и голос его сорвался. – Прими и не оставь нам войны.
Эти слова были тише шёпота, но Эйрик услышал их отчётливо.
Он посмотрел на лица. В каждом было то же самое: напряжение, мольба, страх. Даже там, где кто-то пытался улыбнуться, зубы стучали, а глаза выдавали дрожь.
Они не благодарят. Они откупаются.
Солдаты сзади расхохотались. Один схватил яблоко из корзины, откусил и кинул огрызок в сторону мальчишки, что стоял рядом с матерью. Тот не двинулся. Не закричал, не отвернулся. Его тёмные глаза смотрели прямо на Эйрика.
И снова это чувство.
Тот же взгляд. Немой вопрос, что врезался в него ещё тогда, на дороге: «Кто ты?»
Эйрик замер.
Печать в груди дрогнула, и на миг показалось, будто её удары совпали с этим взглядом.
Он отвёл глаза.
Солдаты начали расходиться по деревне. Одни требовали еды, другие тащили вино. Кто-то уже садился на землю, развязывал бурдюк, наливал кружку и звал товарищей. Праздник начинался.
А жители всё так же стояли молча. Они подчинялись, но не с благодарностью, а с тем же выражением, что носят рабы, глядя на хозяина.
Эйрик чувствовал, как в груди холод печати смешивается с чем-то иным – тяжёлым, вязким, похожим на камень.
«Для них я не освободитель. Для них я бич. Они не свободны. Они боятся меня больше, чем врагов.»
Солдаты быстро заняли деревню, как воду разливают по трещинам. На площади разожгли костры, потащили столы и лавки прямо из изб. Кто-то зарезал козу, кто-то разбил бочонок с вином, и воздух наполнился густыми запахами дыма, крови и алкоголя.
Воины кричали, пели, хлопали друг друга по плечу, будто сражение осталось далеко позади и не стоило ни капли пота. Но в их смехе звучало то же безумие, что было на поле боя: слишком громкий, слишком резкий, слишком жадный до собственной силы.
Эйрик стоял в стороне и видел всё, словно со стороны.
Печать в груди всё ещё пульсировала – не так бешено, как в бою, но достаточно сильно, чтобы её холод и жар одновременно проходили по венам. Он чувствовал, как это биение отзывается в его воинах. Их радость была не их собственной. Это был тот же зов, что вёл их утром в бой. Только теперь он выливался в пир.
Жители пытались угодить. Женщины приносили миски с похлёбкой, мужчины вытаскивали из погребов хмельное. Кто-то пытался улыбаться, но глаза выдавали дрожь. Улыбки были застывшими, губы трещали от напряжения.
И каждый раз, когда взгляд случайно встречался с глазами Эйрика, улыбка исчезала. Люди сразу опускали голову, отступали назад.
Он видел: они не благодарят. Они боятся.
На краю площади стояла группа детей. Их согнали в кучу, как стадо, и велели не шуметь. Но один – тот самый мальчик – снова смотрел прямо на него. Лицо его было бледным, губы сжаты в тонкую линию, но глаза не отворачивались.
Эйрик задержал взгляд, и в груди печать ударила больнее. Он почти ощутил, как она зарычала.
Солдаты между тем разошлись окончательно. Один поднял кружку и заорал:
– За Эйрика! За клинок славы!
Крик подхватили десятки глоток.
– За Эйрика!
Воины повернулись к нему, поднимая кружки, глотая вино, плюясь пеной. Их глаза горели восторгом. В этот миг они готовы были умереть за него.
А жители стояли молча, смотрели на всё это, как на праздник хозяина, в котором они не гости, а заложники.
Эйрик почувствовал, как пустота внутри становится тяжелее.
«Для моих людей я бог. Для них – чудовище. Но я и сам не чувствую себя ни тем, ни другим.»
Печать холодом напомнила о себе, и он понял: радость воинов и страх народа – это две стороны одной цепи. И звено этой цепи – он сам.
Он отвернулся от площади.
Его ноги сами вывели его прочь, в тёмные узкие улочки. Шум пира оставался за спиной, но эхом всё равно отдавался в груди, будто печать смеялась вместе с воинами.
Эйрик уходил всё дальше от площади. Шум праздника постепенно глох, будто его накрывала плотная пелена. Но вместе с тишиной к нему возвращались другие звуки – шёпот и вздохи жителей, спрятавшихся в своих домах.
Он проходил мимо низкой избы, где за тонкой стеной кто-то говорил быстро и испуганно:
– Лучше бы они не приходили… лучше бы враг остался… – голос дрожал, срывался.
Другой отвечал:
– Тише! Если услышат – сожгут нас.
Эйрик остановился. Слова пронзили его острее клинка. Он слышал это не первый раз – и всё же каждый раз рана была свежей.
Они боятся не врагов. Они боятся меня.
Он двинулся дальше.
В другом доме женщина укачивала ребёнка. Малыш плакал тонким голоском, и мать шептала:
– Не смотри, не смотри… это всего лишь сон… сейчас всё пройдёт…
И снова сердце Эйрика сжалось. Он знал: она говорила о нём.
Ветер донёс смех с площади. Солдаты пили, ели, бросали кости, обнимали друг друга. Там было веселье, но оно звучало не как радость, а как ярость, нашедшая новый выход.
А здесь – за каждой дверью, за каждым окном – был страх.
Эйрик остановился на узкой улочке. В тени кривого забора стояли две девушки, совсем молодые. Они прижимались друг к другу и шептались. Когда он вышел из темноты, обе замерли. Лица их побледнели, руки вцепились одна в другую. Они склонили головы, как рабы, ожидая удара.
Он прошёл мимо, не сказав ни слова. Но на спине ощущал их взгляд – не благодарный, не уважительный. Взгляд жертвы, что ждёт, когда хищник уйдёт.
Печать в груди билась ровно, спокойно, будто наслаждаясь этим контрастом. Её голод был насытился, и теперь она вкушала страх людей, как второе угощение.
Эйрик сжал кулаки.
«Это не моя воля. Это не моя победа. Это она. Всегда она.»
Он свернул к окраине деревни. Там не было домов, только редкие костры да сараи. Воздух был холоднее, тише. Вдалеке кричала сова, и это был первый звук, не связанный с людьми.
Он остановился, вдохнул глубже.
Но даже здесь, на краю, он слышал шёпот. Женский голос, старческий, еле различимый:
– Смерть пришла к нам. В образе воина.
Эйрик закрыл глаза.
«Да. Смерть. Только не моя – их.»
Шаги сами привели его к реке. Вода тихо плескалась, отражая дрожащий свет луны. Он посмотрел в отражение. На него глядел человек в кольчуге, с клинком на боку. Но глаза… глаза были чужими.
И в этой тьме снова вспыхнула память – лицо мальчишки, что смотрел прямо на него. Тот же вопрос в глазах: «Кто ты?»
Эйрик не нашёл ответа.
Он долго стоял у воды, не двигаясь. Луна висела над рекой, и её отражение ломалось в каждом колебании. Казалось, что и его лицо ломается вместе с водой: то оно привычное, человеческое, то вдруг искажённое, словно чужое.
Эйрик присел на колени, провёл ладонью по холодной поверхности. Круги пошли от пальцев, и в этих кругах отражение распалось совсем. Вода показала ему не человека, а тень с горящими глазами.
Он резко выпрямился.
В груди печать отозвалась гулким ударом, будто рассмеялась над его попыткой увидеть себя прежнего.
За его спиной доносился смех воинов, песни, звон кубков. Жители прятались в домах, в тишине и страхе. И только он один оказался посередине – ни с теми, ни с другими.
«Они празднуют, будто свободны. Они верят, что освободились от врагов. Но в их голосах – её крик. В их радости – её жажда. И в их страхе – тоже она.»
Он опустил взгляд.
Трава у реки была вытоптана сапогами. Даже природа здесь носила следы войны. Кусок ткани, окровавленный обрывок знамени, валялся у самого берега. Вода уже смыла часть крови, но красные полосы всё ещё расплывались по поверхности.
Эйрик провёл рукой по груди. Металл кольчуги холодил кожу, но под ней билось другое – тяжёлое, чужое сердце. Печать. Она не давала забыть ни на миг.
– Ты – не герой, – тихо сказал он самому себе. – Ты их раб.
Слова растворились в ночи, но в ответ печать ударила сильнее, словно соглашаясь.
Он поднялся.
Над рекой пролетела птица – чёрная тень, едва заметная на фоне луны. Её крик был коротким и резким. Эйрик проводил её взглядом и почувствовал, что его собственная жизнь стала таким же криком: мгновенным, обжигающим, чужим.
Он повернулся к деревне.
Там светились костры, звучали песни. Солдаты пировали, жители молчали за стенами. И каждый – и воин, и крестьянин – носил в себе её цепь.
«Освобождённые? Нет. Ни они, ни я. Мы все – рабы. Только у каждого свой ошейник.»
Холодная мысль вонзилась в него глубже клинка. Он не чувствовал радости, не чувствовал даже злости. Только пустоту.
Он снова посмотрел в реку. Отражение было неподвижным. И в этом молчании он впервые увидел правду: человек, что смотрел на него, уже не был им самим.
Эйрик выпрямился и медленно пошёл прочь от берега. Шаги были тяжёлыми, но уверенными. Он знал: покой ему не дан.
Печать ждала.
А вместе с ней – новые войны.
Эйрик сидел у реки долго. Вода убаюкивала его, но не давала покоя. Волны колебались под светом луны, и каждый их всплеск был как удар печати в груди.
Он пытался не слушать её биение. Закрыл глаза, прислонился к стволу кривой ивы, вдохнул влажный запах ночи.
И вдруг что-то изменилось. Холод ушёл, биение ослабло. Словно печать на миг ослабила хватку.
Тишина вокруг наполнилась другим звуком – тихим смехом.
Не громким, не звериным, а лёгким, чистым.
Эйрик вздрогнул.
Он узнал этот смех.
Перед глазами встало другое место. Не поле, не деревня. Дом. Невысокая хата с низкими потолками, запах свежего хлеба, потрескивание огня в очаге.
На скамье – мальчишка лет десяти, босоногий, с растрёпанными светлыми волосами. Он смеялся, держась за деревянный меч.
Эйрик узнал себя.
В груди защемило.
Сцена была слишком ясной, слишком настоящей. Он слышал голос матери, зовущий к столу. Чувствовал запах тёплого молока и густой похлёбки. Слышал, как где-то за стеной брат ругался с отцом из-за работы в поле.
Он не помнил этих дней подробно – время стёрло их. Но сейчас они вставали с такой силой, будто никогда не уходили.
Мальчик поднял деревянный меч, поднял крик, пародируя воина:
– Я – защитник! Я буду стоять до конца!
Смех снова заполнил комнату.
Эйрик хотел улыбнуться. Но улыбка не вышла. Он смотрел и видел – это был он. Когда-то. До печати. До крови. До войны.
Он вытянул руку, хотел коснуться этого видения. Но пальцы прошли сквозь дым.
Вдруг всё погасло.
Огонь очага потух, смех оборвался. Хата исчезла. Осталась тьма.
И в этой тьме ударила печать. Гулко, жёстко, как кулак в грудь.
Эйрик вскрикнул и распахнул глаза. Перед ним снова была река, ночь и холод.
Но память всё ещё держала его.
И чем сильнее он вспоминал смех мальчишки, тем острее понимал: этот мальчик мёртв. Его убила не война. Его убила печать.
Эйрик снова закрыл глаза – и воспоминание вернулось, ярче, чем прежде.
Он видел дом не как тень, а живым, наполненным светом. С потолка свисали пучки сушёных трав, пахло хлебом и дымом. На полке стояли глиняные горшки, в которых тлел тёплый пар. За окном слышался лай собаки и звон колокольчика у коровы.
В центре комнаты сидела мать. Она улыбалась, глядя на него и братьев. В её руках было простое полотно, она штопала рубаху, но взгляд её был мягким, светлым.
– Эйрик, – сказала она, – не гонись за славой. Удержи сердце чистым.
Мальчишка – он сам, маленький, – кивнул, но глаза его сияли так, что в словах матери он видел лишь вызов.
Рядом стоял старший брат, хмурый, серьёзный. Он учил его держать деревянный меч крепче, показывал, как правильно шагать вперёд, как не отступать.
– Война придёт, – говорил он. – Мы должны быть готовы.
Младший же смеялся, упрямо отмахиваясь:
– Зачем война? Лучше пасти коров и воровать яблоки у соседей!
И вся комната взрывалась смехом.
Эйрик слышал этот смех сейчас, в ночи у реки. Он чувствовал его в груди, как когда-то – радость, лёгкость, простоту.
Вот оно. То, что я потерял.
Он вспомнил вкус тёплого молока, вспомнил, как мать гладила его по голове, как волосы путались в её пальцах. Вспомнил, как сам смеялся, пока не болели рёбра.
Эти картины были ярче, чем день, прожитый вчера. И от этого боль становилась ещё сильнее.
Он смотрел на себя мальчишку, и тот казался таким настоящим. Такой чистый, такой полный надежды. Глаза – без тени крови, без тяжести.
– Это я, – прошептал Эйрик. – Когда-то.
Но в тот же миг он заметил перемену.
Сначала лёгкую, почти незаметную. Дым от очага стал гуще. Смех братьев звучал глуше. Солнце за окном будто померкло.
Мальчик поднял деревянный меч, но теперь в его руках он выглядел не игрушкой, а чёрным клинком. Его глаза потемнели.
– Я буду защитником, – повторил мальчишка. Но голос его изменился – в нём звучала печать.
Эйрик отшатнулся.
– Нет… это не так. Это не то…
Комната дрогнула. Лица матери и братьев начали расплываться, будто их смывали невидимые руки. Смех превратился в крик. Дым затянул очаг, стены потемнели, а в центре – там, где стоял мальчик, – вспыхнул символ печати.
Он горел, словно клеймо, разрастался и покрывал всё вокруг.
Эйрик закрыл глаза руками, но пламя печати пробивалось сквозь веки.
«Даже мои воспоминания не мои. Даже здесь – она.»
Он рванулся прочь, будто мог вырваться из собственного прошлого. Но вместо дома снова оказался у реки. Луна холодно отражалась в воде, дыхание рвалось из груди, а печать билась сильнее.
Вода у реки тихо плескалась, но в голове Эйрика ещё гремел крик. Он сидел, вцепившись пальцами в землю, и пытался удержать хоть обрывки видения.
Мать. Её глаза. Голос братьев. Тёплый дом.
Но всё таяло. Чем сильнее он держался, тем быстрее это исчезало. Как песок, просыпающийся сквозь пальцы.
Он зажмурился, будто хотел вернуть свет.
И в темноте увидел – мать снова зовёт его к столу.
«Эйрик…»
Голос был мягким, но вдруг исказился, сорвался в хрип.
«Эйрик… мой воин… мой клинок…»
Он распахнул глаза.
На воде отражался символ. Тот самый, что бился в его груди. Огненные линии складывались в узор, что извивался, жил, будто был не рисунком, а существом.
И из отражения шагнули образы.
Сначала – мать, но её лицо было без глаз. Только пустые тени в глазницах. Она протянула руки, но пальцы её были костлявыми когтями.
Рядом появился брат, но его смех превратился в рычание, а деревянный меч стал клинком, капающим кровью.
Младший же упал на колени, но изо рта его текла не похлёбка, а чёрная пена.
– Нет, – выдохнул Эйрик. – Это не вы… это не так…
Фигуры качнулись, и печать на их телах вспыхнула. Огненные узоры разрастались, окутывая их, пока они не превратились в силуэты, сотканные из жара и мрака.
Они хором заговорили его голосом:
– Ты – наш. Ты – не сын, не брат, не человек. Ты – клинок.
Эйрик сжал голову руками.
Печать в груди билась так сильно, что каждый удар отдавался болью в висках. Казалось, она хотела выбить его сердце наружу.
Он закричал – и образы исчезли.
Осталась только ночь. Река. Луна.
Он тяжело дышал, едва удерживаясь на ногах. Грудь болела, будто её прожгли изнутри.
«Даже память мне не принадлежит. Она забрала всё. Мою мать. Моих братьев. Меня.»
Он посмотрел на своё отражение в воде.
Там не было мальчика. Не было юноши. Только он – с глазами, в которых отражалась печать.
– Ты убила их, – прошептал он, обращаясь к узору в груди. – Ты убила всё, что во мне было человеческого.
Но печать молчала. Её пульс был ровным и уверенным, как дыхание зверя, что заснул после пира, но готов проснуться снова.
Эйрик опустил голову.
Внутри была пустота. Та, что не заполняется ни воспоминаниями, ни победами.
Он поднялся и медленно пошёл обратно к деревне. За его спиной луна гасла в облаках, а впереди снова слышались песни и смех воинов.
Он знал: завтра память о матери и братьях станет ещё слабее. Завтра останется только он и печать.
И в этом заключалась самая страшная правда:
он всё ещё помнил, что был человеком, но уже не знал, как им быть.
Эйрик вернулся в деревню глубокой ночью. Пир уже выдыхался: песни стали тише, смех – хриплым, воины спали прямо на земле, обняв пустые кубки. Костры догорали, угли тлели алым светом. В воздухе висел тяжёлый запах вина и жира, вперемежку с дымом и потом.
Но за стенами изб стояла другая тишина – напряжённая, мёртвая. Люди не спали. Они ждали, когда армия уснёт, когда крик и звон окончательно стихнут. Их страх был густым, как сырость в подвале. Эйрик чувствовал его кожей.
Он прошёл мимо площади и направился к краю деревни. Тело требовало покоя. Боль в груди не отпускала. Печать будто ждала чего-то – её биение стало странным, мерным, но настойчивым.
Он нашёл сарай и вошёл внутрь. Сбросил с плеч кольчугу, положил меч рядом. Железо глухо стукнуло о землю, и этот звук показался слишком громким в ночи.
Сел на пол, облокотился на стену.
Тишина была липкой. Только сердце – или то, что заменяло его – билось слишком громко.
Эйрик сжал ладонью грудь. Под пальцами он ощутил жар. Не просто тепло тела – жар, будто в груди скрывался уголь, готовый разгореться пламенем.
Он расстегнул ворот. Ткань прилипла к коже – и в тусклом свете луны он увидел линии.
Сначала тонкие, едва заметные. Но они расползались, расширялись, вспыхивали красным. Символы выходили наружу, словно выжженные в коже клейма.
Эйрик замер.
Ему казалось, что эти линии двигаются. Они извивались, переплетались, образуя узор, которого он никогда прежде не видел. Узор, что не принадлежал человеческой руке.
Жар усиливался. Каждое биение печати было словно удар кузнечного молота по наковальне. Грудь горела, дыхание стало рваным.
Он сорвал с себя рубаху.
Теперь весь символ был виден. Круги, пересекающиеся линии, острые углы – всё сияло, будто жидкий огонь проступал сквозь кожу.
Эйрик сжал зубы. Он хотел отвести взгляд, но не мог. Символ жил. В каждом изгибе угадывались чьи-то движения, в каждой линии – приказ.
И в голове прозвучал голос. Не слова – ритм. Удары. Тот же, что вел его в бой.
«Ты – мой.»
Эйрик вцепился пальцами в землю.
– Нет…
Но символ вспыхнул ярче. Вены на руках налились кровью, тело дрожало. Он чувствовал: если не сдержится, печать заставит его подняться и идти прямо сейчас. Не к врагам. Не к воинам. К любым – лишь бы пролить кровь.
– Ты – мой клинок, – ритм становился всё отчётливее. – Моё оружие.
Эйрик ударил кулаком по земле.
– Я не твой раб!
Но печать ответила смехом. Не громким, но безжалостным.
Эйрик сидел, стиснув зубы, но печать неумолимо оживала.
Линии расходились всё дальше от груди: по плечам, по шее, по животу. Они тянулись по венам, будто сама кровь превращалась в огонь. Кожа светилась изнутри.
Он поднял руку – и увидел, как по ней проступает символика, выжигая узор прямо под кожей. Каждая линия пульсировала, жила собственной жизнью.
– Прекрати… – хрипло выдохнул он.
Но символ не слушал.
Он пульсировал в такт его сердцу, но скоро стало ясно – это не сердце вело печать. Это печать вела сердце.
Удары становились тяжелее. Каждый – как команда. Каждый – как цепь.
Встань.
Возьми клинок.
Убей.
Эйрик схватил меч, но не для удара – чтобы удержаться. Лезвие дрожало в его руках. Он понимал: стоит отпустить волю, и печать поведёт его к любому живому телу поблизости. Солдаты. Жители. Всё равно.
Перед глазами мелькнули образы.
Мальчик с деревянным мечом – его собственное отражение из прошлого. Теперь он шёл к нему с пустыми глазами, и печать горела на его груди.
Мать, без лица, протягивала руки, а узоры на её коже переливались.
Толпа воинов, его воинов, смеялась, но в каждом смехе звучала печать.
И все они говорили хором:
– Ты – наш клинок. Ты – не хозяин, а оружие.
Эйрик закрыл глаза, но картины не исчезли. Они были внутри.
Он рванулся к реке. Вода могла остудить. Вода могла погасить пламя. Он вбежал в неё по колено, зачерпнул ладонями и облил себя.
Лёд вонзился в кожу. На миг показалось, что линии тускнеют.
Он вздохнул с облегчением. Но тут же символ вспыхнул ещё сильнее. Вода зашипела на его теле, будто он был раскалённым железом. В паре он увидел лица – не свои, чужие, забытые. Те, кого он убил. Их было слишком много.
Они поднимались из воды, шептали:
– Раб. Раб. Раб.
Эйрик ударил кулаком по воде, разметав отражения.
– Я не раб! – рявкнул он, и голос сорвался, стал похож на рычание.
Печать ответила ударом такой силы, что он пошатнулся. Тело выгнулось, зубы скрежетнули. Он чувствовал, как в каждом мускуле скрыта сила, но это была не его сила.
Он знал: если сейчас не удержится, он пойдёт в деревню. Он будет резать без разбора, пока символ не насытится.
Он упал на колени прямо в воду. Дышал тяжело, хрипло. Символы пульсировали ярко, как клеймо кузнеца.
«Я должен выстоять. Если сейчас сдамся – всё кончено. Я стану не человеком, не воином, а её игрушкой.»
Но голос печати смеялся, заполняя каждую мысль.
«Ты уже ею стал.»
Эйрик стоял в реке на коленях. Вода доходила до пояса, одежда прилипла к телу, но не охлаждала – наоборот, казалось, что он сидит в кипящем котле. Символы на коже сияли ярче, чем свет луны.
Грудь сдавило так, что он едва мог вдохнуть. Каждый удар печати разносился по телу, и в этом ритме он слышал слова:
Встань. Иди. Убей.
Сначала голос был чужим. Потом – его собственным.
Он зажал уши, но звук не исчез. Он был внутри.
Вокруг вода дрожала. В отражении луны появились лица. Сотни лиц. Мужчины, женщины, дети – те, кого он убил. Их глаза были пустыми, их рты открывались в беззвучном крике. Но вместе их шёпот звучал громче крика:
– Раб. Раб. Раб.
Эйрик вскочил, взмахнул мечом и разрубил отражение. Вода всплеснула, кровь воображаемых теней разлетелась каплями. Но в следующий миг лица вернулись, удвоились.
Он хотел закричать, но горло сжала печать. Он захрипел, рухнул обратно в воду.
«Я теряю себя.»
Линии на его груди и руках горели, словно цепи, кованые прямо на коже. Они держали его, и чем сильнее он рвался, тем крепче становились.
Вдруг боль сменилась тишиной. Всё стихло: и крики, и шёпот, и ритм. Наступила пустота.
И в этой пустоте заговорил голос – спокойный, холодный:
– Ты не хозяин. Никогда не был. Никогда не будешь. Ты – клинок. Ты будешь рубить, пока я велю.
Эйрик сжал рукоять меча так, что пальцы побелели.
– Нет… Я не твой.
– Ты мой, – повторил голос. – Каждый твой шаг, каждый вдох, каждый удар сердца – мой. Ты думал, что сражаешься ради людей? Ты думал, что защищаешь? Нет. Ты всегда сражался ради меня.
Слова обрушились на него, как камни. Он чувствовал их не ушами, а телом. С каждым ударом печати внутри звучало «мой».
Он закрыл глаза. Перед ним снова вспыхнул мальчик с деревянным мечом. Тот поднял клинок и сказал:
– Я – защитник.
А потом улыбнулся чужой улыбкой.
– Нет. Ты – раб.
Эйрик закричал, и крик прорвал тишину. Вода взметнулась вокруг него, упала тяжёлым дождём. Символы вспыхнули, как раскалённые угли, а потом начали угасать.
Боль отступала. Линии тускнели, втягивались обратно в кожу, будто насытившийся зверь уходил в логово.
Он рухнул на спину прямо в воду. Дышал тяжело, каждый вдох был хриплым. Небо над ним светилось луной, и впервые за долгие часы было видно только небо – без отражений, без лиц, без символов.
Но печать осталась. Она не исчезла. Просто замолчала, довольная.
Эйрик понял: это не победа. Это отсрочка.
Он не вырвался. Он не сломал цепи. Он лишь пережил её игру.
Он медленно встал, тяжело опираясь на меч. Вода стекала по телу, холод смешивался с остатками жара.
В деревне уже воцарялась тишина. Солдаты спали. Жители дрожали за стенами.
Он посмотрел на свои руки. На коже всё ещё оставался бледный след узоров. Как клеймо, что не сотрёшь.
– Раб… – повторил он сам себе. Голос был глухим, почти чужим. – Но раб, который знает.