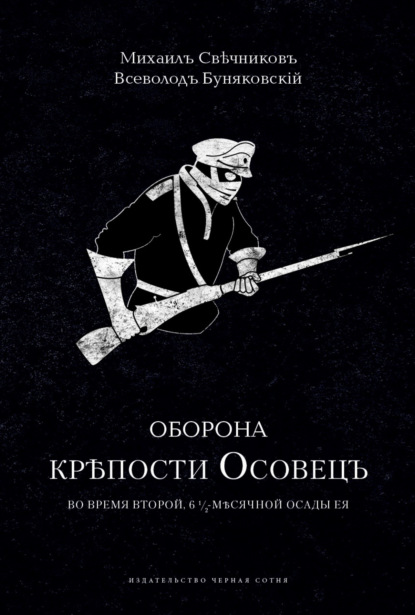Дом душ. Великий бог Пан

- -
- 100%
- +

Введение
Где-то, я думаю, осенью 1889 года мне пришла в голову мысль, что, возможно, стоит попробовать писать в современной манере. Ибо до тех пор я носил в литературе, так сказать, маскарадный костюм. Богатый, витиеватый английский язык первой половины семнадцатого века всегда обладал для меня особой притягательностью. Я приучил себя писать и думать на нём; я вёл дневник в этой манере и полубессознательно облекал свои повседневные мысли и обыденные переживания в одеяния кавалера или каролинского богослова. Так, когда в 1884 году я получил заказ на перевод «Гептамерона», я совершенно естественно писал на языке моего любимого периода и, как заявляют некоторые критики, сделал свою английскую версию несколько более архаичной и строгой, чем оригинал. Таким образом, «Анатомия табака» была упражнением в античном стиле иного рода; «Хроника Клеменди» – сборником рассказов, изо всех сил старавшихся быть средневековыми; а перевод «Способа преуспеть» – всё ещё вещью в старинном духе.
Словом, казалось предрешённым, что в литературе мне суждено быть приживалой ушедших веков; и я не совсем понимаю, как мне удалось от них отделаться. Я закончил переводить «Казанову» – вещь более современную, но не вполне идущую в ногу со временем, – и у меня не было ничего конкретного в работе, и так или иначе мне пришло в голову, что я мог бы попробовать немного пописать для газет. Я начал со статьи для первой полосы, как это тогда называлось, для старой, канувшей в Лету «Глоуб» – безобидной статейки о старых английских пословицах; и я никогда не забуду своей гордости и восторга, когда однажды, будучи в Дувре, где с моря дул свежий осенний ветер, я купил случайный номер газеты и увидел своё эссе на первой странице. Естественно, это побудило меня продолжать, и я написал ещё несколько статей для «Глоуб», а затем попробовал силы в «Сент-Джеймс Газетт» и обнаружил, что там платили два фунта вместо гинеи в «Глоуб», и, опять же, вполне естественно, посвятил большую часть своего внимания «Сент-Джеймс Газетт». От эссе или литературных очерков я как-то перешёл к коротким рассказам и написал их немало, всё ещё для «Сент-Джеймс», пока осенью 1890 года не сочинил рассказ под названием «Двойное возвращение». Что ж, Оскар Уайльд спросил: «Это вы автор того рассказа, что встревожил голубятни? Я нахожу его очень хорошим». Но он действительно встревожил голубятни, и мы с «Сент-Джеймс Газетт» расстались.
Но я продолжал писать короткие рассказы, теперь в основном для так называемых «светских» газет, которые ныне вымерли. И один из них появился в газете, название которой я давно забыл. Я назвал рассказ «Resurrectio Mortuorum», а редактор очень разумно перевёл заглавие как «Воскресение мёртвых».
Я не очень хорошо помню, как начинался рассказ. Склонен думать, что примерно так:
«Старый мистер Ллевеллин, валлийский антиквар, швырнул утреннюю газету на пол и стукнул кулаком по столу для завтрака, воскликнув: „Боже милостивый! Последний из Карадоков из Гарта женился в баптистской часовне, обвенчанный проповедником-диссидентом, где-то в Пекхэме!“» Или же я начал повествование через несколько лет после этого счастливого события и показал совершенно весёлого, довольного жизнью молодого клерка, который однажды утром слишком торопился на омнибус, весь день чувствовал себя одурманенным на работе, возвращался домой в каком-то тумане, а затем, у самого порога своего дома, обрёл, так сказать, своё родовое сознание. Думаю, именно вид жены и тон её голоса внезапно, словно трубный глас, возвестили ему, что он не имеет ничего общего ни с этой женщиной с акцентом кокни, ни с пастором, который придёт к ужину, ни с виллой из красного кирпича, ни с Пекхэмом, ни с лондонским Сити. Хотя старое поместье на берегу Аска было продано пятьдесят лет назад, он всё равно был Карадоком из Гарта. Я забыл, чем закончил рассказ, но вот один из истоков «Фрагмента жизни».
И так или иначе, хотя рассказ был написан, напечатан и оплачен, он оставался со мной как наполовину рассказанная история в годы с 1890 по 1899-й. Я был влюблён в эту идею: этот контраст между новым, безликим лондонским пригородом с его убогой, ограниченной жизнью и ежедневными поездками в Сити, его полной банальностью и незначительностью – и старинным серым домом с горбыльковыми переплётами под сенью леса у реки, гербовыми щитами на крыльце в яковианском стиле и благородными древними традициями; всё это пленило меня, и я время от времени думал о своём неудачно рассказанном сюжете, пока писал «Великого бога Пана», «Красную руку», «Трёх самозванцев», «Холм сновидений», «Белых людей» и «Иероглифы». Полагаю, всё это время он сидел у меня в подсознании, и наконец в 99-м я начал писать его заново, с несколько иной точки зрения.
Дело в том, что в одно серое воскресенье в марте того года я отправился на долгую прогулку с другом. Я тогда жил в Грейс-Инн, и мы бесцельно бродили вверх по Грейс-Инн-роуд, совершая одну из тех странных, ненаучных вылазок в причудливые уголки Лондона, которые я всегда обожал. Не думаю, что у нас был какой-то определённый план, но мы устояли перед множеством соблазнов. Ибо справа от Грейс-Инн-роуд находится один из самых странных кварталов Лондона – для тех, разумеется, у кого глаза не запечатаны. Здесь есть улицы 1800–1820-х годов, которые спускаются в долину – Флора из «Крошки Доррит» жила в одной из них, – а затем, пересекая Кингс-Кросс-роуд, очень круто поднимаются на высоты, которые всегда наводят меня на мысль, что я нахожусь на задворках, в бедном квартале какого-нибудь большого приморского города и что с чердачных окон открывается прекрасный вид на море. Это место когда-то называлось Спа-Филдс и, что вполне уместно, одной из его достопримечательностей является старый молитвенный дом Общины графини Хантингдонской. Это одна из тех частей Лондона, которые привлекли бы меня, если бы я захотел спрятаться; не для того, чтобы избежать ареста, пожалуй, а скорее, чтобы избежать возможности когда-либо встретить кого-то, кто видел меня раньше.
Но мы с другом устояли перед всем этим. Мы дошли до развилки у вокзала Кингс-Кросс и смело двинулись вверх по Пентонвиллю. Снова слева от нас был Барнсбери, который подобен Африке. В Барнсбери semper aliquid novi (всегда есть что-то новое), но наш курс был проложен некой оккультной силой, и мы пришли в Ислингтон и выбрали правую сторону пути. До сих пор мы находились в более или менее известной области, поскольку каждый год в Ислингтоне проходит большая выставка скота, и многие люди туда ездят. Но, свернув направо, мы попали в Кэнонбери, о котором существуют лишь рассказы путешественников. Время от времени, возможно, когда сидишь у зимнего камина, пока за окном воет буря и валит снег, молчаливый человек в углу расскажет, что у него была двоюродная бабушка, жившая в Кэнонбери в 1860 году; так и в XIV веке можно было встретить людей, говоривших с теми, кто побывал в Китае и видел великолепие Великого Хана. Таков Кэнонбери; я едва осмеливаюсь говорить о его тусклых скверах, о глубоких, тенистых садах за домами, спускающихся в тёмные переулки с потайными, таинственными калитками; как я уже сказал, это «рассказы путешественников», вещи, которым не слишком верят.
Но тот, кто отваживается на приключения в Лондоне, вкушает предвестие бесконечности. Существует край и за пределами Ultima Thule1[1]. Не знаю как, но в тот знаменитый воскресный день мы с другом, пройдя через Кэнонбери, попали на нечто под названием Боллс-Понд-роуд – мистер Пёрч, посыльный из «Домби и сына», жил где-то в этих краях, – а оттуда, я думаю, через Далстон спустились в Хакни, откуда караваны, или трамваи, или, как, я думаю, вы говорите в Америке, «троллейбусы», отправлялись в определённые часы к границам западного мира.
Но в ходе той прогулки, которая превратилась в исследование неведомого, я увидел две обычные вещи, произведшие на меня глубокое впечатление. Одной из них была улица, другой – небольшая семья. Улица находилась где-то в том туманном, не нанесённом на карту регионе Боллс-Понд-Далстон. Это была длинная и серая улица. Каждый дом был точной копией другого. В каждом доме был цокольный этаж, который агенты по недвижимости в последнее время стали называть «нижним первым этажом». Передние окна этих цокольных этажей наполовину возвышались над клочком чёрной, измазанной сажей земли и грубой травы, что именовала себя садом, и поэтому, проходя мимо в четыре или в половине пятого, я мог видеть, что в каждой из этих «комнат для завтрака» – их техническое название – уже были готовы подносы с чайными чашками. От этого тривиального и естественного обстоятельства у меня возникло впечатление унылой жизни, выстроенной в жуткие, однообразные ряды, жизни без приключений тела или души.
Затем – семья. Они сели в трамвай где-то в районе Хакни. Там были отец, мать и ребёнок; и я бы подумал, что они из какой-нибудь маленькой лавочки, вероятно, из мануфактурной. Родители были молодыми людьми лет двадцати пяти – тридцати пяти. На нём был чёрный блестящий сюртук, шляпа-цилиндр, маленькие бакенбарды и тёмные усы, а на лице – выражение добродушной пустоты. Его жена была причудливо разодета в чёрный атлас, с широкополой шляпой – не то чтобы некрасивая, просто бессмысленная. Мне кажется, у неё временами, не слишком часто, проявлялся «свой норов». И совсем крошечный ребёнок сидел у неё на коленях. Семья, вероятно, отправлялась провести воскресный вечер с родственниками или друзьями.
И всё же, сказал я себе, эти двое причастились вместе великой тайны, великого таинства природы, источника всего волшебного в целом мире. Но постигли ли они эти тайны? Знают ли они, что побывали в том месте, что зовётся Сион и Иерусалим? – Я цитирую старую и странную книгу.
Так, вспомнив старый рассказ «Воскресение мёртвых», я обрёл источник для «Фрагмента жизни». В то время я писал «Иероглифы», только что закончив «Белых людей»; вернее, только что решив, что то, что сейчас напечатано под этим заголовком, – это всё, что когда-либо будет написано, что Великий Роман, который должен был быть написан – как воплощение этой идеи, – не будет написан никогда. И вот, когда «Иероглифы» были закончены, где-то в мае 1899 года, я принялся за «Фрагмент жизни» и написал первую главу с величайшим удовольствием и лёгкостью. А потом моя собственная жизнь разлетелась на куски. Я перестал писать. Я путешествовал. Я видел Сион, и Багдад, и другие странные места – см. «Близкое и далёкое» для объяснения этого туманного пассажа, – и оказался в освещённом мире рамп и софитов, выходя из левой верхней кулисы, пересекая сцену направо и уходя в правую третью кулису, и делая всякие странные вещи.
Но всё же, несмотря на все эти потрясения и перемены, «идея» не покидала меня. Я снова взялся за неё, полагаю, в 1904 году, снедаемый горькой решимостью закончить начатое. Теперь всё стало трудным. Я пробовал и так, и эдак, и по-другому. Все способы не годились, и я срывался на каждом из них; и я пробовал, и пробовал снова. Наконец я кое-как состряпал некую концовку, совершенно негодную, что я осознавал, когда писал каждую её строчку и слово, и рассказ появился, в 1904 или 1905 году, в «Хорликс Мэгэзин» под редакцией моего старого и дорогого друга А. Э. Уэйта.
Тем не менее я не был удовлетворён. Эта концовка была невыносима, и я это знал. Снова я сел за работу, ночь за ночью я бился над ней. И я помню одно странное обстоятельство, которое может представлять или не представлять физиологический интерес. Я тогда жил в тесной «верхней части» дома на Козуэй-стрит, Мэрилебон-роуд. Чтобы бороться в одиночку, я писал на маленькой кухне; и ночь за ночью, когда я мрачно, яростно, почти безнадёжно бился над подходящим завершением для «Фрагмента жизни», я с удивлением и почти тревогой обнаружил, что в моих ногах появилось ощущение мертвенного холода. В комнате не было холодно; я зажёг конфорки духовки маленькой газовой плиты. Мне не было холодно; но мои ноги леденели совершенно необычайным образом, словно их обложили льдом. Наконец я снял тапочки с намерением сунуть пальцы в духовку плиты и, потрогав ноги рукой, обнаружил, что на самом деле они вовсе не были холодными! Но ощущение оставалось; вот вам, я полагаю, странный случай переноса чего-то, происходившего в мозгу, на конечности. Мои ноги были совершенно тёплыми на ощупь, но по моим ощущениям они были заморожены. Но какое свидетельство в пользу американского идиома «cold feet» (буквально «холодные ноги»), означающего подавленное и упадническое настроение! Но так или иначе, рассказ был закончен, и «идея» наконец покинула мою голову. Я вдался во все эти подробности о «Фрагменте жизни», потому что меня со многих сторон уверяли, что это лучшее, что я когда-либо делал, и исследователям кривых путей литературы, возможно, будет интересно услышать об отвратительных муках, сопутствовавших её созданию.
«Белые люди» относятся к тому же году, что и первая глава «Фрагмента жизни», – 1899-му, который также был годом «Иероглифов». Дело в том, что я тогда был в приподнятом литературном духе. Целый год я мучился и терзался в редакции «Литературы», еженедельной газеты, издаваемой «Таймс», и, снова обретя свободу, я чувствовал себя узником, освобождённым от цепей, готовым плясать в литературе до упаду. Тотчас я задумал «Великий Роман», очень тщательно продуманное и проработанное произведение, полное самых странных и редких вещей. Я забыл, как так вышло, что этот замысел провалился, но опытным путём я обнаружил, что великому роману суждено отправиться на ту славную полку ненаписанных книг, полку, где хранятся все великолепные книги в своих золотых переплётах. «Белые люди» – это небольшой обломок, спасённый с места крушения. Как ни странно, и на это намекается в Прологе, основной источник сюжета следует искать в медицинском учебнике. В Прологе упоминается обзорная статья доктора Корина. Но с тех пор я выяснил, что доктор Корин лишь цитировал из научного трактата тот случай с дамой, чьи пальцы сильно воспалились, потому что она увидела, как тяжёлая оконная рама опустилась на пальцы её ребёнка. С этим примером, разумеется, следует рассматривать все случаи стигматов, как древние, так и современные; и тогда вопрос становится достаточно очевидным: какие пределы мы можем установить для силы воображения? Не обладает ли воображение, по крайней мере потенциально, способностью творить любые чудеса, сколь бы дивными, сколь бы невероятными они ни казались по нашим обычным меркам? Что касается декораций рассказа, то это смешение, которое я осмелюсь назвать довольно изобретательным, из обрывков фольклора и ведовских преданий с моими собственными чистыми выдумками. Несколько лет спустя я с удивлением получил письмо от одного джентльмена, который был, если я правильно помню, школьным учителем где-то в Малайе. Этот джентльмен, серьёзный исследователь фольклора, писал статью о некоторых поразительных вещах, которые он наблюдал у малайцев, и в основном о своего рода состоянии оборотня, в которое некоторые из них могли себя вводить. Он нашёл, как он сказал, поразительные сходства между магическим ритуалом Малайи и некоторыми церемониями и практиками, на которые намекается в «Белых людях». Он предположил, что всё это не вымысел, а факт, то есть что я описывал практики, действительно используемые суеверными людьми на валлийской границе; он собирался цитировать меня в статье для «Журнала Общества Фольклора» или как он там назывался, и просто хотел меня уведомить. Я в спешке написал в фольклорный журнал, чтобы предостеречь их: ибо примеры, выбранные исследователем, были все плодами моего собственного воображения!
«Великий бог Пан» и «Сокровенный свет» – это рассказы более раннего периода, восходящие к 1890, 91, 92 годам. Я много писал о них в «Далёких вещах», а в предисловии к изданию «Великого бога Пана», опубликованному Messrs. Simpkin, Marshall в 1916 году, я подробно описал истоки книги. Но я должен снова привести несколько выдержек из рецензий, которые приветствовали «Великого бога Пана» к моему необычайному развлечению, веселью и отраде. Вот несколько лучших:
«Не вина мистера Мейчена, а его беда, что от созерцания его психологического пугала качаешься от смеха, а не от ужаса». – «Обсервер».
«Его ужас, к нашему сожалению, оставляет нас совершенно равнодушными… а наша плоть упорно отказывается покрываться мурашками». – «Кроникл».
«Его пугала не пугают». – «Скетч».
«Боимся, ему удаётся быть лишь смешным». – «Манчестер Гардиан».
«Мрачно, жутко и скучно». – «Ледис Пикториал».
«Бессвязный кошмар на тему секса… который при неограниченном употреблении быстро привёл бы к безумию… безвреден в силу своей абсурдности». – «Вестминстер Газетт».
И так далее, и так далее. Несколько газет, я помню, заявили, что «Великий бог Пан» – это просто глупая и неумелая перепевка гюисмансовских «Там, внизу» и «Наоборот». Я не читал этих книг, поэтому приобрёл их обе. После чего я понял, что мои критики их тоже не читали.
Фрагмент жизни
I
Эдвард Дарнелл очнулся ото сна, в котором он видел древний лес и светлый родник, подернутый серой дымкой и паром в туманном, мерцающем зное. Открыв глаза, он увидел, что комнату заливает яркий солнечный свет, искрящийся на лаке новой мебели. Он повернулся и обнаружил, что место рядом пустует. Все еще находясь под впечатлением смутного и удивительного сна, он тоже поднялся и начал поспешно одеваться, потому что немного проспал, а омнибус отходил от угла в 9:15. Это был высокий, худощавый мужчина с темными волосами и темными глазами. Несмотря на рутину Сити, пересчет купонов и всю ту механическую рутину, что длилась уже десять лет, в его облике все еще угадывалось нечто от дикой, первозданной грации, словно он родился в том старом лесу и видел, как бьет родник из зеленого мха и серых скал.
Завтрак был накрыт в комнате на первом этаже – той, что выходила французскими окнами в сад. Прежде чем сесть за свою яичницу с беконом, он серьезно и почтительно поцеловал жену. У нее были каштановые волосы и карие глаза, и, хотя ее прекрасное лицо оставалось серьезным и спокойным, можно было подумать, что и она могла бы ждать мужа под вековыми деревьями и купаться в заводи, выдолбленной в скалах.
Пока разливали кофе и ели бекон, а глуповатая, вечно глазеющая служанка с чумазым лицом вносила яйцо для Дарнелла, им было что обсудить. Они были женаты год и ладили превосходно, редко просиживая в молчании дольше часа. Однако последние несколько недель подарок тети Мэриан стал неисчерпаемой темой для разговоров. Миссис Дарнелл в девичестве была мисс Мэри Рейнольдс, дочерью аукциониста и агента по недвижимости из Ноттинг-Хилла, а тетя Мэриан – сестрой ее матери, которая, как считалось, несколько унизила себя, выйдя замуж за мелкого торговца углем из Тернем-Грин. Мэриан сильно ощущала отношение семьи, и Рейнольдсы пожалели о многом из сказанного, когда торговец углем скопил денег и занялся строительной арендой земли в районе Крауч-Энд, причем, как оказалось, с большой для себя выгодой. Никто не думал, что Никсон способен на многое, но вот уже много лет они с женой жили в прекрасном доме в Барнете – с эркерными окнами, кустарниками и небольшим лугом, – и семьи виделись редко, поскольку дела у мистера Рейнольдса шли не слишком успешно. Разумеется, тетю Мэриан с мужем пригласили на свадьбу Мэри, но они прислали извинения вместе с милым набором серебряных «апостольских» ложечек, и все опасались, что большего ждать не приходится. Однако на день рождения Мэри тетя прислала самое нежное письмо, вложив в него чек на сто фунтов от себя и «Роберта». С тех самых пор как Дарнеллы получили деньги, они не переставали обсуждать вопрос их разумного вложения. Миссис Дарнелл хотела инвестировать всю сумму в государственные ценные бумаги, но мистер Дарнелл указал, что процентная ставка до смешного низка, и после долгих разговоров убедил жену вложить девяносто фунтов в надежную шахту, которая приносила пять процентов годовых. Это было прекрасно, но оставшиеся десять фунтов, на которых настояла миссис Дарнелл, породили легенды и рассуждения, столь же нескончаемые, как споры схоластов.
Поначалу мистер Дарнелл предложил обставить «свободную» комнату. В доме было четыре спальни: их собственная, маленькая для служанки и две другие с видом на сад. Одна из них использовалась для хранения коробок, обрывков веревок и старых номеров «Тихих дней» и «Воскресных вечеров», а также нескольких поношенных костюмов мистера Дарнелла, которые были тщательно завернуты и отложены, поскольку он толком не знал, что с ними делать. Другая комната откровенно пустовала, и в одну субботу днем, когда он ехал домой в омнибусе, размышляя над трудным вопросом о десяти фунтах, ему внезапно пришла в голову мысль о неприглядной пустоте этой комнаты, и он загорелся идеей, что теперь, благодаря тете Мэриан, ее можно обставить. Эта восхитительная мысль занимала его всю дорогу домой, но, войдя в дом, он ничего не сказал жене, чувствуя, что идею нужно довести до ума. Он сообщил миссис Дарнелл, что по важному делу ему нужно снова уйти, но он непременно вернется к чаю в половине седьмого. Мэри, со своей стороны, была не прочь побыть одна, так как немного отстала с ведением домашних счетов. Дело в том, что Дарнелл, полный решимости обставить свободную спальню, хотел посоветоваться со своим другом Уилсоном, который жил в Фулхэме и часто давал ему дельные советы о том, как потратить деньги с наибольшей выгодой. Уилсон был связан с торговлей бордоскими винами, и единственное, что беспокоило Дарнелла, – это не застать его дома.
Однако все обошлось. Дарнелл доехал на трамвае по Голдхок-роуд, остаток пути прошел пешком и был рад увидеть Уилсона в палисаднике перед домом, занятого своими цветочными клумбами.
– Сто лет тебя не видел, – весело сказал тот, услышав, как рука Дарнелла легла на калитку. – Заходи. Ох, я и забыл, – добавил он, когда Дарнелл все еще возился с ручкой, тщетно пытаясь войти. – Конечно, ты не можешь войти, я же тебе не показывал.
Стоял жаркий июньский день, и Уилсон появился в костюме, который наспех надел, как только приехал из Сити. На нем была соломенная шляпа с аккуратным нашлемником, защищавшим шею сзади, а одет он был в норфолкскую куртку и бриджи из ткани «вересковая смесь».
– Смотри, – сказал он, впуская Дарнелла, – видишь фокус. Ручку вообще не надо поворачивать. Сначала сильно толкни, а потом потяни. Это моя собственная хитрость, я ее запатентую. Понимаешь, она держит нежелательных личностей на расстоянии – такая важная вещь в пригороде. Теперь я могу спокойно оставлять миссис Уилсон одну, а раньше ты и представить себе не можешь, как к ней приставали.
– А как же гости? – спросил Дарнелл. – Как они входят?
– О, мы им подсказываем. К тому же, – неопределенно сказал он, – кто-нибудь обязательно выглянет. Миссис Уилсон почти всегда у окна. Сейчас ее нет, ушла в гости. Кажется, у Беннетов сегодня приемный день. Сегодня ведь первая суббота, да? Ты же знаешь Дж. У. Беннета? Ага, он в Палате общин, дела у него, кажется, идут отлично. Он мне на днях подкинул одну очень выгодную штуку.
– Слушай, – сказал Уилсон, когда они повернулись и пошли к парадной двери, – зачем ты носишь эти черные вещи? У тебя, должно быть, жаркий вид. Посмотри на меня. Ну, я, конечно, в саду работал, но чувствую себя свежим, как огурчик. Наверное, ты не знаешь, где достать такие вещи? Мало кто знает. Как думаешь, где я их взял?
– В Вест-Энде, полагаю, – сказал Дарнелл, желая быть вежливым.
– Да, так все говорят. И крой хороший. Ладно, я тебе скажу, но ты не рассказывай всем подряд. Мне подсказал Джеймсон – знаешь его, «Джим-Джемс», из чайной торговли, Истбрук, 39 – и он сказал, что не хочет, чтобы весь Сити об этом знал. Просто иди к Дженнингсу на Олд-Уолл, назови мое имя, и все будет в порядке. И как думаешь, сколько они стоят?
– Понятия не имею, – ответил Дарнелл, никогда в жизни не покупавший такого костюма.
– Ну, попробуй угадать.
Дарнелл серьезно посмотрел на Уилсона.
Куртка висела на нем мешком, бриджи плачевно свисали над икрами, а на самых видных местах вересковый цвет, казалось, вот-вот полиняет и исчезнет.
– Полагаю, фунта три, не меньше, – сказал он наконец.
– Ну, я на днях спросил Денча у нас в конторе, он предположил четыре фунта десять, а его отец как-то связан с крупным бизнесом на Кондуит-стрит. А я отдал всего тридцать пять шиллингов и шесть пенсов. По мерке? Конечно, посмотри на крой, приятель.
Дарнелл был поражен такой низкой ценой.
– И, кстати, – продолжил Уилсон, указывая на свои новые коричневые ботинки, – ты знаешь, куда идти за обувью? О, я думал, это все знают! Есть только одно место. «Мистер Билл» на Ганнинг-стрит – девять шиллингов и шесть пенсов.
Они ходили кругами по саду, и Уилсон показывал цветы на клумбах и в бордюрах. Цветов почти не было, но все было аккуратно рассажено.